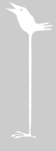| Новости | |
| Лауреаты | |
| Дебют 2001 | |
| История | |
| Документы | |
| Люди о премии | |
| Лица | |
| Обратная связь | |
| Фонд "Поколение" |
Дебют 2001
|
Василова Дина |
“Флейта дождя”
Говорят, где-то -
кажется, в Бразилии -
есть один счастливый человек…
В. Маяковский
Бурлюк эмигрировал в США. А Маяковский, надо сказать, к Бурлюку этому очень хорошо относился. Любил он его, можно сказать. Кажется, именно Бурлюк впервые назвал Володичку настоящим поэтом. А может, это был Каменский или даже вообще Хлебников. Разве в этом суть? Суть - в любви. И в разлуке, само собой.И вот представьте себе такое дело - В.В. взял да и приехал в Америку. Да не куда-нибудь, а прямо в этот самый Нью-Йорк, куда смылся Бурлюк. Ну и конечно, Маяковский первым делом к телефону. Волнуется, разумеется, поджилочками трясется, душонкой прихрамывает, но крепится.
- Алло, - говорит. Радостно, восторженно почти что. - Здравствуй… Здравствуй…
А у самого во рту - разлагающиеся трупики слов. Потому что Давид - он самый-самый. Какие тут к дьяволу велеречивости, когда Володя тут - и Давид тут?! Тут же реветь можно от умиления (обор-рмоты! Не разглядели за РОСТА и ананасовой водой в баре надсадный крик смертельно раненного жизнью человека…).
- Здравствуй, Володенька, - спокойно и доброжелательно отвечает Бурлюк. - Как жизнь?
- Спасибо, - насмешливо реагирует Володенька. - За последние десять лет у меня как-то был насморк…
Смешно?
Смешно.
Нет, по правде.
И горько…
Как я смеялся, когда прочитал эту байку…
Как бы я сейчас улыбался в телефонную трубку!
Если б мог.
Не могу.
И ведь всего какой-то занюханный год в престижном швейцарском учзаве…
А что я скажу? "Здравствуй, заяц, я приехал"? "Имя твое я боюсь забыть, как поэт боится забыть какое-то в муках рожденное слово, величием равное богу…"?!
Ага, фигушки. Меня хватит лишь на светское, с этаким годовалым холодком: "Здравствуйте, Алена Викторовна, я вернулся. А как ваша дочурка?"
На кой хрен я ей нужен? У нее муж и четырехлетнее дите. У нее своя жизнь, свои интересы, свои друзья, свои книжки… Все-все - свое… Даже тринадцать лет между нами - только ее, она спрятала их в свои ладошки, не дала мне прикоснуться ни к кусочку, усмехнулась, снисходительно потрепала мальчишку по щечке и процедила: "Садись. Три".
О чем это я? Лишь бы наплести, лишь бы заговорить этого проклятого радиоубийцу… Чтоб взял и зазвонил - сам. Ну что ему?.. Ну… Ну ведь и Дрюша знает, и Ксенечка, и Вадик… Ну хоть бы кто раззвонил, хоть бы один… Впрочем, с чего они должны догадаться? Весь год я выпендривался, аки дитятя полуторогодовалое, орал "бяка!" и плевался манной кашей… А они поверили. Взяли и предали - верою…
О-о, я еще и ною. Мало того что не звоню уже два дня, мало того что скулю пришибленным сусликом, мало того что каждый час звоню Ксенечке и клянусь в любви… Так я еще и плачусь в порванные ухи плюшевого зайца из детской сказочки. Как весь год пищал: "Пожалейте меня, Аленушка, я же далеко, я же одинок… Видели бы вы темный, сумрачный памятник Руссо… Стоит он, чуть ссутулившись, безразлично заглядывает в глаза полуночным прохожим: куда они идут? К кому? А я отворачиваюсь - потому что с полным правом могу встать рядом с ним, осуждающий, осужденный. Мне не к кому. Единственный… единственная… Да, начал читать мемуары Белого".
Я ведь и туда, в Женеву, сбежал из-за нее. Ага, сбежал: ввалился одним весенним утречком домой, ошалевший от тоски, черемухи, Ксенечки и того, что в два ночи, когда всего горше без нее, А.В. спит… Ввалился и провозгласил: мам-пап, я еду учиться в Швейцарию. Плел чего-то про Сорбонну, про то, что специализироваться хочу на иностранке, что языки у меня присутствуют отсутствием… Они и не сопротивлялись - Ксенька их задолбала своими писклявыми ночными звоночками, кажется, они всё гадали, когда ж пацанка залетит… Не объяснять же им, что не залетит - не спит ни с кем их сыночек, потому что единственная, любимая, манящая, волшебная - она семь лет как замужем, она каждую неделю в его дневнике расписывается, она даже звонила ему - аж два раза: не принесет ли мальчик в школу лишний кактус да не соблаговолит ли прынц разлюбезный задержаться после уроков обсудить новогоднюю пьесу… Припер - аж три чахлых зелененьких охломыша, а пьесу обсуждал, старался, ругаясь в душе матом и стараясь не гладить глазами усталые руки. Но крепился, хоть на битье на жалость не хватило наглости. Хотя ой как хотелось - на минуточку приобрести власть, распластать ее этой жалостью, хлестнуть крапивой безответности, смутить, заставить ненавидеть себя… И пожалеть меня - такого хорошего, такого невинненького, такого талантливенького…
Я шлялся по Женеве, задирал зареванное лицо к этой дохлой луне, выкрикивал в эту безупречную французскоговорящую темноту - "Знаете что, скрипка? Мы ужасно похожи: я вот тоже ору - а доказать ничего не умею!" и "Это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни!" Подходил к теплым неоновым теплом витринам, смотрел на дорогие колье ("Я привезу тебе такое, слышишь? Смотри, моя девочка, я богат, как черт! Я завалю тебя гениальными рассказами, я заговорю тебя нежными ромашками, я сплету тебе венок из подарков, из цветков и телефонного писка…"), на растерянных, таких Дашкиных мишат, на массивные фолианты книжек… Видишь это все, Аленька? Это все - твое… Я полировал своей челкой стекла уличных телефонных будок. Знаешь, как просто? Телефонная карта у меня в кармане, она уже передавала и Ксенькино вопление, и Вадькино солидное ничегонеговорение… Она в любую секунду прозвонит в твоей далекой, московской, как будто из другой жизни… Дашка дернется в кроватке, твой муж недовольно проворчит и перевернется на другой бок, ты легонько чертыхнешься, протянешь руку и…
И я звоню Ксеньке. Или маме.
Уже второй, должно быть, ты легла. // В ночи Млечпуть серебряной Окою. // Я не спешу, и молниями телеграмм // Мне незачем тебя будить и беспокоить…
Тебе ведь все равно, вежливо, ласково, улыбчиво все равно. Я могу резать вены, могу бросаться под машину, могу писать гениальные стихи или бездарную прозу. Ты все равно каждое утро будешь водить в садик Дашку, будешь читать книжки и встречаться с людьми, будешь щуриться от солнышка и дрожать от холодного ливня. В твоем мире мое бытие и небытие даже не отличаются по знаку: ноль не бывает ни положительным, ни отрицательным…
Я подружился там с девочкой Настей. Она была старше - на год. Конечно, мы не просто дружили, взрослые же… Каждый раз, когда я вспоминал про тебя, про то, что ты не пишешь, даже у Вадьки не спрашиваешь - я становился нежным, влюбленным…
Один раз мы с Настеной попали под дождь. Я такого в Москве в жизни не видывал. Густая серая пелена, мгновение, и влага прошивает тебя насквозь… Мы скакали в этом потоке, как козлы, потом заскочили в магазин… Огромные стенды, иностранный говор, маленькие вертелки с открытками и закладками, стрекотание кассы. Настя приклеилась к полкам с детективами, она так учила язык, я потыкался, полистал атласы, поплелся на второй этаж… От фонаря поперся, потому что монет в лучшем случае хватило бы на два стакана сока и обратное - в интернат - такси.
А на втором этаже - всякая чепуха. Ролики, ручки, розетки, розовые пеналы. И мягкие игрушки. Разные, прикольные: мелкий белый медвежонок, протягивающий ни к селу ни к городу прилепленный банан, обнимающие друг друга спаниелевидные щенята, какие-то кролики-суслики-белочки…
А я, как последний болван, взял одного такого косямурика, уткнулся своим табачным ртом и замер, вдыхая пыль и твой неторопливый, всему классу, рассказ: "Дарья любит мягкие игрушки. Застывает перед витриной, растопырив ручонки, и начинает тянуть на одной ноте: "Ма-амочка… Ма-амочка…"" Ой-й, идиот… Взял и убег в Швейцарию оттуда, из Москвы, от нее, от ребят… От старенькой полуразрушенной церквушки рядом с нашей 16-этажкой…От облезлого гастронома, где уже двенадцать лет хрипит мой ломающийся голос: "Полкило колбасы и три батона…" И, подумав: "Пожалуйста…"
Смелости не хватило , сволочь, остаться?! Каждый день оберегать ее от бремени своей любви, каждый день доносить до учительской тетрадки, забирать из детсада ребенка, писать красивые сочиненьица - о душевных исканиях Болконского, о расколе в душе Раскольникова… Когда и у тебя - раскол, когда и у тебя - искания…
Не-ет, показалось: проще хлобысь разлукой на год, измениться, повзрослеть, выпендриться независимостью. Вычитал у какого-то взрослого идиота: "Настоящий человек должен быть самодостаточен, он силен в свободе от нелюбви и любви…" Два сапога: этот взрослый, который - верняк! - напивался чернил от невозможности обхватить губами ту, единственную, - и шестнадцатилетний сопляк, обнаруживший в строю бардак и непослушание… Кто-то посмел стать дороже всего, когда идеалом был Каратаев: ровненький, кругленький, относящийся ко всем одинаково. Есть человек - есть приязнь, нет человека… Во мне бы так!
Ну что, самородок юный, достиг просветления, выработал душевную независимость, коз-зел?
Казалось - да. Ну, сперва-то или пил, или курил, или с Настей игрался - назло той, московской, дескать, получите дубль два! Птица говорун отличается умом и сообразительностью… Умом и сообразительностью…
Потом дошло: это ж в мильон раз хреновее, это ж я к чертям жизнь ломаю - во имя нее, Прекрасной Дамы. Она же не такая совсем, не развратница, не стерва… Ну приду я к ней, с разбитой посудиной души, обливаясь потоками крови из вен, артерий и капилляров, шмякнусь отравленным рабом к ногам какого-то там владыки, весь такой молодой и умирающий… Ну улыбнется она испуганно, обовьет мой безвольно поникший стан, поцелует хладеющее чело: "Маленький, Господи, я не хотела…" Станет ей плохо на секунду, тоскливо, обидно...
Так что ж мне ради этой секунды, дохнуть, что ли?!
Распаковал я ящички с книжечками, принялся за Карлейля и Хайдеггера, начал на лекциях чего-то там слушать, записывать… С английским у меня действительно было по нулям: смысл я улавливал по мимике, поэтому письменные зачеты заваливал с завидной регулярностью. Стал было просить мистера Иска читать мне вопросы вслух. Наплел про мамочку, которая всегда… Нет, посмотрели, как на психа, пришлось засесть за словари…
Выучил я этот долбаный английский, выучил. И книжки прочитал, Морозова даже (был такой неортодокс, всех русских историков от него знобило и лихорадило, а эти швейцарские умники и Пушкина-то вспомнили через неделю после вопроса, а Толстого так вообще спутали с популярным мультсериалом "Toy story"…). С одной японкой подружился, с Ханако. Ни фига она не знала, болтала мне про своих сестренок и кошаров, но теплая была, улыбчивая - как Аля… Аля днем не вспоминалась - загружен же мальчик, за выживание борется, думает, где б лишний гамбургер перехватить, а то от столовской пищи дистрофиком вылупишься через две недели. По субботам мы с Настеной, правда, вылазили в Венское кафе - офигенная там атмосфера, как будто одиночество в компании… Я брал мороженое и ирландский кофе, Настена лопала фруктовые пирожные и муссы - Аля тоже их любила.
Аля вспоминалась вечерами. Фотка у меня была только одна, да и про ту она ничего не знала, я выпросил у Михона из параллельного, выменял на три блока сигар… А сама Алька мне не дала - посмотрела своими синими глазищами, удивилась: зачем-де ребенку фотографии старой нудной тетки?
Догадывалась, конечно, но трогать боялась: знала, взорвусь, метнусь, как Базаров к Одинцовой… Спокойней так было, да, Аль?
Ну ладно.
Зачет по физике я сдал. Плевое было дело, но я собой отчего-то гордился: и еще лизал подтаявшее мороженое скорой встречи. Настена ходила прибалдевшая: влюбилась в химика. Понятное дело, девки всегда влюбляются в самовлюбленных свиней. Когда я это сказал, Настена почему-то не обиделась… Крепко шибануло девчонку. Как меня, видать.
В аттестате у меня были одни бэшки, кроме английского и физики. Тоже мне, блин, юный филолог.
А за весь год я ей послал всего одну открытку - мэри кристмас, короче, хэппи новый год, учусь, читаю, в зоопарке недавно были, с девчонкой классной подружился, Дашке привет, мужу тоже, без Вас скучаю, через полчаса у мальчишек вечеринка, не знаете, как Вадька, черкните хоть пару, посмотрел тут последнюю ленту с Николсоном…
А на открыточке - смешной вороненок скатывается в лыжах с крыши швейцарских часов. Полчаса выбирал: чтоб ни одного сердечка! Я ведь мужественный, взрослый, без этих соплей… Заклеил, сунул Кларе вместе с пятью франками, вернулся. Заглянул к Настене, увидел такую же открытку - сидел ребенок, лизал языком конверт, открытка вся исписанная, стало быть, и у нее был кто-то в Питере…
Услышала мои шаги, вскинула мордашку: "Смотри, как они хитро придумали! Еле нашла!" И тычет наманикюренным ноготком - в вороненка. С сердечком на отвороте шарфика.
Настена решила поступать в евровуз, оставаться в Люмане еще два года. Хитро посверкала глазками: можно подумать, никто не догадался об обаянии этого химика, тьфу ты, конспираторша несчастная…
Сунулся было: а как же с тем парнем. Отпарировала: если б любил, спросил бы, как с тобой.
Ловко.
А по правде, Аль, я послал тебе сто с лишним писем. Половину карманных денег спускал на марки.
Знаешь, пишу, и о тебе, и о темных кронах деревьев за окном нашей с Франком комнаты, и о стихах Есенина, и о любви своей… Обо всем. А потом - стираю на экране компьютера все "Аленушка" и "девочка моя Алька", вырезаю нафиг абзацы про ребенка и мужа, ну, на крайняк приписываю : "если бы у нас была дочка…" и посылаю Ксеньке.
А пацаны у нас были разные. Большинство, конечно, крен дали на девочках-юбочках… Франко - тот нет, у него подружка была в Венесуэле, он даже как-то мне ее фото показал. Ну, кадрил там девок, но не трепался - Мигеле всё писал. Я рассказал пару баек про Ксеню, пошмыгали вместе.
А был один ленинградский, Васек, он сдвинулся на прикиде. Все к Настене моей приставал: у него, видишь ли, рубашка одна стoит как весь ее гардероб. Пришлось на популярном и общедоступном жаргоне рассказать, чего стоит одна клеточка Настиного тела по сравнению с его… Грязная это штука - усмирять козлов, но зато эффективная.
Был еще америкашка, Марти, тот был голубым щенком. На девочек смотрел печальными дымчатыми лунными глазами, меня же недвусмысленно целовал при встрече. Потом встретил пацанчика из ЮАР, началась дружба между народами на почве любви к Чайковскому…
А сейчас я приехал, видишь, Аль. И всего-то ничего: набрать твой номер, буркнуть имя-отчество. Ну, обломаться: может, приедешь завтра.
Сижу, трушу: вот сейчас, только доиграет эта песенка… Вот насчитаю двадцать пять слов на гласную… Вот придет мать с работы… Вот…
Одиннадцать почти. Ну чего, я звоню…
Набираю. Семь ключиков от семи дверочек, семь заветных ворот, семь камней в короне Семирамиды…
Гудок. Еще гудок. Неужели…
Нет, щелчок. Снимают. Ты когда-нибудь видела африканскую пустыню?
Здрасьте, а Алену Викторовну можно?
Идущие на смерть… Ну не тяните же вы, ну ведь давно уже придумали гильотину…
Гейне, кажется, говорил, что первый, кто сравнил женщину с цветком, был великим поэтом, второй - обыкновенным болваном…
Мать вернулась. Лелька носится вокруг нее Юпитеровским спутником, визжит, вымаливает благосклонной котлетки.
Полное имя Лелика - Лель-лайф с Междуречья. А чего, звучит…
Вечером надо будет дочитать Перлса. "Актуальность, ответственность, осознанность". Три кита жизни взрослого человека. Умнo, по-моему, как Вам кажется?
Алло?
Знаешь, твой голос ни на грош не изменился. Такой же девчачий, изумленный, смеющийся…
Елки, началась эта слюнявая романтика. Ведь тридцать с лишним штук выкинул, чтоб хоть на йоту повзрослеть.
Ну и английский выучить заодно.
У меня есть еще мелкий сопливый шансенок: швырнуть трубку (а определителя-то у тебя и нету…), удалиться в кабинет, раскрыть Мамардашвили… Интересно, что там выкинули неостоики?
Гораздо интереснее, чем трепаться с какой-то двадцатидевятилетней девчонкой…
Но я - я посылаю к чертям эту декабристскую сдержанность, это стоическое одиночество. И начинаю мрачно читать: "Сильный, // понадоблюсь им я - // велят: // себя на войне убей! // Последним будет // твое имя // запекшееся на выдранной ядром губе. // Короной кончу? // Святой Еленой? // Буре жизни оседлав валы, // я - равный кандидат // и на царя вселенной // и на // кандалы. // Быть царем назначено мне - // твое личико // на солнечном золоте моих монет // велю народу: // вычекань! // А там, // где тундрой мир вылинял, // где с северным ветром ведет река торги, - // на цепь нацарапаю имя Алино // и цепь исцелую во мраке каторги…"
Секундная пауза. И спокойный голос.
У Маяковского Лилино, не Алино… Здравствуй, малыш. С возвращением.
А вчера, кстати, я вычитал офигенную фразу у Фаулза. Если честно, меня этот писатель не шибко радует. "Коллекционера" я читал в подлиннике - бог мой, лазил в словарь через каждую фразу, так что даже эта Сaдовская история осталась в пролете - в словарной сноске, должно быть.
Ну, и "Волхв" меня не очень приколол. Так, на досуге ничего, полистать можно. О нем, говорят, писали много: вышел вроде как новый шедевр, каждый уважающий себя…
Черт его знает, может и впрямь шедевр.
Но вот одна фраза там - зашибись. После нее только пойти и спрыгнуть с собора святого Стефана: для законченности композиции.
Utram bibis? Aquam an undam?
Нет, здорово, да?
Здравствуйте, Алена Викторовна, - вежливо откликаюсь я. - Как поживает ваша дочка?
Чем утоляешь жажду? Водой или волною?
Василова Дина
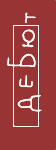
| © 2001-2003 Независимая литературная премия "Дебют" Made in Articul.Ru |
|