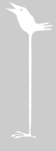| Новости | |
| Лауреаты | |
| Дебют 2001 | |
| История | |
| Документы | |
| Люди о премии | |
| Лица | |
| Обратная связь | |
| Фонд "Поколение" |
Дебют 2001
|
Гатина Дина |
Из книги “Кафтан саранчи”
* * *
Слоненок ел овсянку. Его пучило. Он очень терпел, не пугая зрителей, думал, уйдут - но нет! Стоят. Улыбаются. Тычут: "Слоненок ест овсянку". И тогда он на миг перестал жевать и издал протяжный звук. Он слышал, как все пересуживаются, но только пожал плечами. Серый и серьезный. Таким был его отец.
* * *
Утопилось солнышко. Ушли братья искать такой крюк, чтобы смочь достать. Сестра дома сидела-сидела, да и состарилась. Шло всё - набухло новое солнышко, распеленалось, раскричалось, - спалило и дом, и поле, и сарай под яблоней. А братья были далеко, видели ерунду. Очень она им приглянулась - напихали полные карманы, но тут - ностальгия. Вернулись они домой, а там солнышко сияет, как незнамо что, а домика нет, а поле выгорело, и даже сарай под яблоней. Посмотрели тогда они, да и вышли на цыпочках - за пень, за кочку, за крыло бабочкино, а там - дёру! Отдышались, сели на полянку, достали ерунду, а она вся от жару растаяла, совсем неинтересная стала. Посмотрели на это братья, и заплакали. Всё.
* * *
А я так тихо ходила, чтобы не разбудить их. На носочках, мизинчики оттопыривая, чтобы не клацали по полу. Не везла через всю кухню мешок лука - на спине тащила, чтобы луковки не гремели. Не били в бубен, когда хотелось. Не рвала старую одежду - она так трещит. А они не спали. Смеялись. Пускали в глаза зайчиков маленькими зеркальцами.
* * *
Спали семьдесят восемь маленьких днят. Клали под голову белые кувшинки и серых сусликов. Ничего не обижалось, ни в чем не было цели. Всем хорошо было.
* * *
Один матрос, дядя моей соседки, любил очень оладушки. Выходит на лестничную клетку курить, да и повременит. Замрет мечтательно с трубкой: "Оладушки" - говорит.
* * *
Ехала в трамвае. Прижимало меня к полной женщине. Она вздыхала, как сивуч, когда нас трясло. Потом все поубавились, и вошел бережный мальчик с баночкой. В баночке сомик. Вертится, вертится.
Посмотрела в окно и увидела так внезапно, что воздух вокруг сделался как бы дым, забился мне в переносицу. А он в простой серой жилетке, будто совсем ничего не значит. Скользнул взглядом.
Хотела закричать, брякнуться оземь лебедушкой, жабьей шкуркой, чтоб целовал меня. Скользнул взглядом. Ничем не стала.
В небе торчали ровные диагональные облака. Вспомнила забытое-забытое слово папирус, такое же наощупь.
Собирала когда-то перышки, всякие с земли перышки; хотела сделать либо подушку, либо крылышки, но все поднялись на кончик, полетели напрямую в облака. Стало нечем.
* * *
Север-север! Покажи свои гнилые острые зубки! А я здесь, на дереве, видишь? Я ведь упасть могу, помять перышки и крякнуть. Кря!
У селезня головка зеленая, у утицы - никакая, в общем серь. Удобно жутко.
Мы могли бы вить гнезда, могли бы нести яички, но - север-север: глазастые болота, пень-морошка, и только - цап! за лапы, и нет лап. <эВетка хрустела и покачивалась, пронзая все вокруг своей красотой>.
Вылез грустный зверь - плакать. Выволокли из нутра морского огромную мм-рыбу, потрошили полмесяца, полсевера загнило, заплесневело, то ли от рыбы, то ли без рыбы - непонятно.
На крыльце, которого не было, сидел узкий мальчик, грел ногу, зудел зуделкой. Зверь слушал его, чтобы было удобней плакать.
А утки летят, летят отседова, хоть куда. Они опять сумеют. Летят вить гнезда, летят яички нести отсюда.
* * *
Прощалась, давала руку в сизом манжете, а сама ожила к утру. Я дам тебе столько радости, сколько ты сможешь вытерпеть. Я дам тебе ровно столько солнца, чтобы с тебя не слезла шкурка. Так говорила и падала из лодки в море.
Возвращалась на рассвете, болтала. У нее было пять шансов сбежать, но она истратила их из любопытства. Теперь всегда здесь. Здесь она всё.
* * *
Локон уже оплакан.
Буду в Париже - отпущу с какого-либо окна, чуть больше, чуть светлее. Лети, скажу, в парижское вольное небо, дыши, дыши! И одна местная французская птица возьмет его за комфортабельность для гнезда. А у меня голова болеть станет.
Приеду, начну говорить иногда, ах, что-то голова опять разболелась, от французской птицы.
* * *
Оврагом ползли и, вероятно, верили. Она потянула лямочку зубками и он пропал.
Черточки неба, через плотно сжатые цветы - ах, мой тихо-терапевт, мой твердый, зеленый, как отчаянье, идол. Поставили на скамейку, извиваясь, сокрылись, будто не было петель на земле - ветер пылью покрыл следы их уползновенья.
Небольшие глоточки зяблят резиново растягивались, разливались большой речкой. "Ведь истина так проста..." - думал некто, сидя на бережку, пуская блинчики. Раз-два-три - ам! И сглотнули, сглотнули его сбоку. Только бы успеть схватить, взять его - там, на лавочке. Я бегу, теряя болты, ломая свои и соседские вещи; я падаю возле пустой скамейки.
Те двое, бесспорно хохочут. А что спорить? Это была действительно очень хорошая шутка.
* * *
Ножки в ручки - поплавок. Трогательный позвоночник на полвершка возвышается.
Я кричу ей: "Хэй! Хэй!". Но лишь края ее раковин видны над водой, она слушает мног глубже моих криков.
И тут: "Клюет! Клюет!" - мерзко, торжествующе вопит красная рожа-рыбак.
Тонкая, незагорелая совсем, спина резко идет влево и вниз. Круги от каждого позвонка.
ЗИМОВАЛИ
* * *
Они сидели у костра и щепотками мох подбрасывали.
- Мы его щептим.
- Да, конечно, - весело согласился он, что был в меру подстрижен и вообще на мир глядел с радостью.
- У нас тут Зимовье. Дров бы.
И они весело кинулись.
* * *
- Мне говорили, будто здесь есть медведи. Их нужно избежать. Бежим?
Какие листья, какие уродские мордочки сухости, которую страшно звать старостью, какие узловатые надломы и как хрустит под пятками. Босые были. Ботинки сохли на палочках.
* * *
Вечером ветер хватал их за косы, пытался залезть в голову, отдувался. Хотел найти хоть какую-нибудь отдушину в этом честнейшем лесу.
Мох обгорел всюду, где сумели дотянуться язычки. Тонкие, оранжевые. Острее самых острых острословов.
- Огонь все съест, да?
И тогда они садились поближе и ворошили палочками, а потом заплетали большущую, на двоих, косу и кутались, как если бы она была из верблюжьей шерсти. А огонь ел их и слизывал то, что мимо.
* * *
Он с утра бегал в речку. Забежит по глаза, покричит от восторга - нырк под камень. Там жил рак, за ним смотреть потешно - всегда клешней приноравливается, хоть 365 раз к нему бегай.
* * *
- Нельзя вытаскивать рыбу на берег, потому что нас нельзя класть под воду.
Это было так честно, что она живо побросала всю рыбу в реку. Одна рыба вертикально встала на хвост, но уплыла тоже.
- Вон тот мальчишка нанизал рыбу на глаза, она больше ничего не увидит!
- Не плачь, это же дрянной мальчишка.
* * *
Средь белого дня появились алые пятна. Они покрыли весь день и запачкали горизонт, будто выросли едкие тучные маки.
Вскоре они стали продвигаться вперед, по темечкам сосен и прочих, по речке в песок, кровавя камни и мостик, такой белый. Краснота вытекла в малинник, и ягоды взахлеб взрывались, и медведи падали ниц, завидя такое дело, и в ужасе закрывали глаза.
- Скоро дойдет сюда. Что с нами будет?
- Заболеем краснухой.
Речка выплюнула на берег безнадежно красного рака.
- У меня краснеет нога!
* * *
Ночь была спокойной, как бабушкины носочки. Краснухой никто не заболел, только коленки слегка пощипывало.
- Значит, мы не расположены к красноте!
Но радость их поубавилась, потому что все утро они хоронили снегирей и зарянок, и самочки щеглов плакали кровавыми слезами, потому что за ночь их красноголовые мужья, абсолютно все, умерли от непроверенных мыслей.
(фсё)
"ПОЛЁТ"
Окно открыто. Они могут видеть дочь в полном обмундировании. Луна обступила меня. Пронзила капиллярами там, где их лучше не знать.
Мамины очки не бьются. Так сделаны, роняю, ни слезы сожаления, роняю. Поднимаю. Под столом припасенный картон от стенки "Нимфа". Это не паспарту, ей-богу, скажу больше: вообще непригодно. Дочь проста, она смеялась, даже когда ей было уже не четыре года.
Фотопленки. Скрытные черные коробочки, и мутно-белые, через которые почти видно. Есть в пакетах, разрезанные по четыре кадра. Стопочки памяти, по четыре кадра в каждой. Зачем столько? Поделом. Это, что поделать, дочь. Это она поделывала.
Четыре мягких игрушки за две недели. Хомяк - вылитый бабушка. Теперь можно и обронить; потом высморкаться. Потом - шопинг. Это слово подчеркнуто красным.
Они открывают магазин "Пружины". Они хотят приманить нас этим, но у них ничего. Обычная распродажа. Одно названье.
Под стеклом - пожеванные собакой погоны и темный шоколад с миндалинами, выдернутыми во втором классе. Девочка Рита рассказывала о комке вкусного мороженого, который дают после. У нее до сих пор текут слюнки и поблескивают глаза. Текут глаза. Туда, впрочем, принимают пленки. Я не сдам самые откровенные - не стоит уж очень доверять таким конторам. Поблескивают слюнки.
У фотографа не осталось истертых носовых платков. Ими протирают объектив, их больше нет: все пошли на мои сопли. Поскользнулись и попадали. Думали я - веселая, весельчачка. Эти платки, они очень долго становятся старыми.
Швейцарские карандаши и местные нитки - все цветное. Пусть нравится засилье благородного беспорядка. Иногда я отвоевываю кусочек метр на полтора и пытаюсь заняться в нем делами. Они редко спорятся, потому что на виду слишком много торчащих из-под кровати или много прищемленных дверцей шкафа; недошитых или полунабитых. Памяток и памятников. Отдохнуть же на этом кусочке почти невозможно - во мне метр шестьдесят два, и я сплю по диагонали. Отчаявшись, уползаю на кухню. Там хомячок расскажет мне, что у него в кастрюльках. Тогда я ползу в зал, где безнадежно попадаю в сеть непроверенного и неотправленного, где треуголка падает на палас, и вскоре плевать на благородные беспорядки.
Иногда для счастья бывает достаточно сорока сантиметров свободной поверхности стола. Это длина моей линейки.
Детские игры сначала не делятся по половой принадлежности. 12 палочек я не отдам вам, бессердечные мальчишки. Теперь в лифте, наверное, смешно.
В магазине есть крем, а руки-цапли. Просто для себя, достаточно таких. Не выйду из дома.
Пустые холсты вдохновляют и печалят, когда лень. Самые честные рисунки - в серединках тетрадей. Друзей нужно рисовать на салфетках. Самые сомнительные - обрамлять дорогим багетом. Хорошее настроение нужно рисовать только на асфальте и только мелом. Сердце - малиновым фламиком. А Ленка говорила: фломик.
Окно открыто. Один раз вот так же залетел голубь. Мы с сестрой на него так смотрели, а он только везде нагадил. Все кормушки, которые были: из пластмассовой бутылки (в ней застревала синица), из коробки от посылки "Коваленко Марии Владимировне", из коробки от конструктора "Полёт"; старый поднос с полустершимся самоваром и двумя цыплятами. Но вообще-то мне рано и смешно впадать в ностальгию.
Конструктор "Полёт" - лучший.
Окно открыто, но какие дубовые листья, понасажали тополей, один даже накренился. Сыпешь ванилин и вспоминаешь про дубовые листья: он похож на пыльцу феи Тинкербелл. Умею печь лепешки.
Когда сыпешь ванилин, хочется полететь. На волосах - не действует, на плечах, пальцах, на всех линиях сгиба - не действует. Куда ж его сыпать, мать?
Я посыпала ванилином эрогенные зоны. Теперь это зоны ванилина!
Прощайте же!
Искренне ваш, Дуболом.Гатина Дина
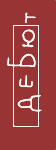
| © 2001-2003 Независимая литературная премия "Дебют" Made in Articul.Ru |
|