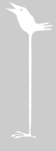| Новости | |
| Лауреаты | |
| Дебют 2001 | |
| История | |
| Документы | |
| Люди о премии | |
| Лица | |
| Обратная связь | |
| Фонд "Поколение" |
Дебют 2001
|
Гейде Марианна |
“Женечка Бергман”
На голо отсвечивающих стенах распятые доски, как бабочки, шевелят траурными крылами. Курчавые мячики маленьких голов подпрыгивают и опускаются на правое плечо от усердия - коротенький диктант. Голос спотыкается на запятых и делает неуклюжие реверансы на каждом новом предложении. Время от времени раздается выстрелом: "абзац" - и трепещущие двоеперстия взлетают и приникают к краю страницы. Поверхность бумаги изборождена бледно-лиловыми полосками, косые прожилки рассекают их на одинаковые параллелограммы. Сиреневый сгусток чернильной пасты отливает золотом, как брюшко навозной мухи. Бледные губы складываются в очертания гласных, верхняя губа прикусывает, сплевывает шипящие, давится согласными - в воздухе, нарезанный ломтями, плавает Паустовский.
Откуда-то уже тогда появилось блаженное опьянение собой, разом отменившее усвоенное впоследствии разделение на две вещи, из коих ни одна не была вещью в подлинном смысле - точно мы и впрямь знаем о тех вещах, которые берем или не берем в руки, всю их подноготную, точно прикосновение к коже так уж необходимо обетует какую-то плотность - но ужас, который пробегает от плеча до кончиков пальцев, выщипывая по пути волоски, словно хороший парикмахер - разве ужас имеет тело, и разве ужас не имеет тела из-за того, что так вольно разгуливает по нашему собственному - и наконец что нам с того, имеет или не имеет тело ужас, почему мы на основании этого ужаса делаем столь смелое заключение о том, что мы сами имеем душу, быть может, ужас - и есть сама душа, проникающая нашу обезвоженную плоть в тот или иной час, и тогда она, дрогнув, начинает осознавать себя - а потом стая мурашек сбегает по каблуку и прячется в трещины паркета, и вода оставляет нас, стекая вслед за ними в глубокие древесные поры - нет, нет, я вовсе на этом не настаиваю, совсем наоборот, только я хочу, чтобы это предположение незримым щитом оградило вас от жестокости, требовательности и безразличия к вашему постоянно страждущему спутнику, мающемуся жаром и жаждой от того, что вы не знаете, чем его напитать, чем его утешить, как не знаете, чем напитать и утешить раненый камень, вопиющий в пустыне.
Только не путайте, молю, не путайте, увещеваю - с тем любованием патологоанатома, которое охватывает вас перед зеркалом или историей жизни, когда ваши руки вызывают у вас восхищение, или ваше воспоминание, отделенное от вольной колонии других таких же или худших воспоминаний тонким стальным ланцетом, так в экране телевизора несколько секунд трепетала, точно пригретая моим внимательным взором, - дрогнула рука и напечатала "внимательным вором", и это было совсем верно, потому что права смотреть я за собой не нашел, а желание мое было таково, что воровски припав обоими глазами к хвостику бегающего луча, я все-таки смотрел - выставка, то ли в Берлине, то ли не в Берлине, на коей демонстрировались инсталляции, сработанные из препарированных человеческих тел. Я смотрел во все глаза - оказалось, что их у меня более, чем два - более, чем у стрекозы, - и каждый из них отпихивал другого, и каждый из них был подавлен другим, и каждый из них стремился впечатать в себя увиденное, чтобы ослепнуть для всего остального, и странным показалось мне собственное желание заключить себя и свое тело в наполненный формалином сосуд, в котором движение было бы запечатлено посредством неестественных, опровергающих друг друга положений отдельных членов, а мысли - мысли, оторванные от пальцев, сжатые в некую исчезающую сквозную точку, в тот момент, когда они происходят - как запечатлеть их движение, может быть, в тающей белизне оговорок и опечаток, свернувших в себе, наподобие эмбрионов, нечто совсем иное, чем было сказано - и от этого то, что было сказано, потеряло вес и начало неслышно парить над землей - лукаво усмехаясь, парить над землей.
И кажется, что тот, кто касается твоих ступней своими, не касаясь земли, - ангел, спутник, хранитель тела твоего, неотступный страж, и отстраняешься в ужасе, оттого что он не брат твой и совсем не подобен тебе, и весь смысл двойничества распадается на множество зеркальных соответствий, из коих ни одно не является телом, и ни одно не является вещью, и ни одно не является, грустно лик свой от тебя пряча. И иногда кажется, что потерял то, чего не знаешь, в необдуманной сделке с чудищем, и оно, израненное, изглодавшее семь железных хлебов, вот-вот тебя настигнет, а иногда - что оно совсем не искало тебя и не хотело быть найденным, что ему там, где оно есть, хорошо, лучше, чем с тобой.
И иногда - что вы с ним никогда и не были вместе, что встреча, представлявшаяся роковой, случилась так же, как случается задеть рукавом проходящего, не разглядев ни возраста, ни лица, не услышав от него ни слова упрека или чего-нибудь, что дало бы тебе право полагать, что он тебя заметил.
Тогда началось это странное; словно кто-то обещал мне, загадав на кофейной чашке, на серебряной ложке, на кафельной шахматной плитке, и я поверил раз и навсегда, и сам стражем стал перед собою, и сам, выставив грудь щитом, начал вращаться с неожиданно возросшей скоростью, пытаясь костяною полусферой хранить открывшееся мне чудо со всех сторон, так что в воздухе образовалась воронка, в которую ринулись мои слова и колебания воздуха, в которых отпечатывались движения моего тела, и в конце концов я сам туда рухнул, все еще пьяный внезапным восторгом, - но уже одинокий, как камень, обтесанный каменщиком.
По улице сновали, как ищейки, машины с вытянутыми мордами, обнажая никелированные десны, из свинцово-синего пульверизатора весна брызгала в седую шевелюру тополей, притопнув ногой, - и стекла припадочно звенели, покрывая трещинами спертый воздух. В классах стояла полутьма, пока не приходило в голову включить свет, но было недостаточно темно для электрических ламп, свет масляными пятнами плавал под самым потолком, придавая предметам желтоватый тошнотворный глянец, синие и коричневые спинки кривились, как червячки в сердцевине надкусанного яблока, в густом равнодушном шуме тонули и всплывали брюшком вверх расчлененные слова диктанта.
Нас учили разделке слов, снабдили непривычными скользкими инструментами - сперва
надлежало отделить приставку чем-то вроде кочерги с короткой ручкой, затем дугообразным фиксатором закрепить корень, прикрыть островерхой крышечкой суффикс, заключить окончание в квадратное окошечко; в наших неопытных руках инструменты кривились, вытягивались, иной нерадивый ученик просто-напросто прилаживал их к трепещущему слову в любом порядке и где придется, иногда получалось забавно; другой раз предлагалось склонять или спрягать, в последнее было легче поверить, это было просто грубое насилие, в котором участвовали и мы, и они, и вы - но как поверить, что можно внушить слову склонность к чему-то, что может вовсе не быть ни мной, ни тобой, ни нами, ни вами; слова состояли совсем из иного вещества, чем мы, и наверняка были не так сговорчивы, как мы - тогда нас можно было простым звоном электрического колокольчика загонять в пахнущий чужим дыханием класс, где мы сидели близко-близко друг к другу, парами, иногда задевая локтем соседа, иногда перегибаясь всем телом через парту, чтобы передать записочку или карандаш, ничуть не смущаясь теснотой, замаскированной провалами пустоты между стульями - точно самые наши тела были гарантией того, что никто не может ни разделить нас на несколько самостоятельных частей, ни присоединить к нам кого-нибудь другого, так, что получится кто-то совсем третий, не похожий на нас, вероятно - вовсе не человек, наподобие того, как химический синтез делает из двух веществ одно. Меня смущала легенда о двух половинках. Что-то должно было произойти после их воссоединения - быть может, дети? Но это представлялось маловероятным: восстановленное существо должно было бы оказаться качественно отличным от тех, чьему соединению оно обязано своим существованием, но как могло это существо породить что-то неподобное себе, несовершенное и вполне опровергающее своего родителя? И обладало ли это единое существо способностью порождать живое существо из себя самого, или нуждалось в ком-то еще, противоположном ему? Но что может быть противоположным существу столь совершенному, нашедшему себя в
своей полноте, если не само небытие - а если так, то что, кроме небытия может содействовать ему в порождении - я в изнеможении вытряхивал из головы непонятную легенду и шел прогуляться по коридору, но в этот момент звонок ронял свой шлагбаум у меня на пути и я плелся на свое место.Начинался урок, и я внимательно приглядывался к словам. Могучими быками, впряженными в ярмо, выползали они на чересполосицу моей тетради, безмолвные, угрюмые. Разглядел, приблизившись - то не быки, волы. Те слова, после которых нельзя более быть словам. Так есть имена, которые живут себе, живут, беспрерывно размножаясь и прилипая к разным физиономиям, словно лесные клещи, - и в один прекрасный день оказывается, что имя выродилось и более не имя собственное, а только имя нарицательное, то есть почти и не имя, или, если посмотреть с другой точки зрения, имя так и осталось собственное, а носитель его - уже не человек, а группа людей, рассыпанная наподобие народа иудейского по всей земле - здесь их больше, там тот или другой стал выкрестом и называет теперь себя на французский или английский манер, словом - много лет должно пройти, чтобы имя было погребено и в должный день воскресло - или не воскресло никогда.
Скажу наперед - все произошло по вине моей матери, только не знаю - доведись мне писать это на латыни, - какой предлог следовало поставить - gratia или causa, потому что в одном случае получается вина, а в другом - благодать, и с одной стороны мне хочется обвинить, а с другой - благодарить, и моей матери, верно, тоже хотелось сперва винить, а потом - благодарить, и винить, должно быть, больше, чем благодарить, и, конечно, винить и благодарить следует моего отца, который каких-нибудь несколько месяцев не дожил до моего рождения и мог бы, верно, обуздать странные фантазии матери, но не обуздал, то есть - не дожил, и моя мать нарекла меня, когда пришло время, Женечкой, ибо ей нравились имена нежные, греческие и амбивалентные, и, верно, нравились и раньше, потому что тремя годами ранее она назвала Женечкой мою сестру. Все мы носили ее фамилию, то есть - Бергман, потому что фамилия отца была такова, что уж лучше бы ему не иметь вовсе никакой, то есть еще хуже, чем Бергман.
Так и получилось, что с хвостиком год в нашей семье сосуществовали два ребенка под названием Женечка Бергман, и уж конечно это было чересчур, поэтому через год после моего рождения Женечка скончалась от полиомиелита, чем безумно огорчила мою мать. Впрочем, менее чем через несколько недель после этого моя особь начала подавать несомненные признаки разума, и моей матери, во всяком случае, было чем заняться.
Но вообразите себе - вам семь лет и вы после полуторачасовой езды в машине, дрейфующей у каждого светофора так, что можно запрокинуть голову и всматриваться в дырчатую обивку, слой за слоем нарастающую над вашей головой, так, что кажется - еще немного, и она мягко надавит на макушку и пристанет к глазным яблокам - а потом вы все равно моргаете и обивка испуганно отскакивает на свое прежнее место - и пока вы воображаете себе это, машина вдруг трогается, и наросты дождя на боковом стекле наливаются желтизной загодя зажженных по случаю непогоды уличных фонарей, и тяжелеют, и стекают, не оставляя на ваших любопытных пальцах, трогающих обратную сторону стекла ни следа, - наконец понимаете, что приехали, потому что машина делает лихую загогулину и останавливается, перестает пыхтеть и умирает. Вы покидаете мертвую машину и минуете ворота, чьи чугунные прутья облеплены водянистыми слизняками, и навстречу вам из земли встают вспухшие от воды мертвецкие лики, выбитые на шлифованных кусках гранита. На кладбище, как в ухоженном, но вольно растущем саду, через остроконечные столбики ограды перегибается шиповник, словно самоубийца через борт корабля, роняя и подхватывая плотные зеленые ягодки с растопыренными усами, три низенькие голубые елки цапают друг друга коготками, вдруг выступает каменный скорбный ангел, у ограды горбатые сосновые кресты, и над этим первым слоем в трепещущем парении пребывает второй слой знаков, преимущественно имен, чаще - собственных, реже - нарицательных, и цифры, римские и арабские вместе - я попадаю в царство имен как они есть, имен, никого не именующих, оторвавшихся от своих носителей с такой же легкостью, с какой душа оставляет тело - для нас, которые остались, чтобы называть розу розой, ибо немыслимо представить себе ни что переживает душа, отлетевшая от того, что она призвана удерживать, в тот момент, когда она вольна не удерживать, и тело тут же проявляет свой бунтарский норов и начинает распадаться, и другие тела, дабы ускорить распад, кремируют его - ни что переживает имя, призванное удерживать вещь, которая также стремится ускользнуть от нашего ума, будь эта вещь деревом, чайником или человеком - я смотрю на эту недвижную пляску перекликающихся имен, вовсе не прикрепленных к своим каменным плитам и жестяным табличкам с такой же робкой дрожью, с какой в костеле смотрю на маленькую перекладинку на распятии, я хочу услышать тонкий шепот, хоть что-нибудь, что свидетельствовало бы о гортанном происхождении слов и имен, но здесь они не нуждаются в том, чтобы быть произнесенными, здесь они более похожи на иероглифы, сухие, изящные, как засушенные растения - знаете ли вы о том, что растения в гербарии указывают вовсе не на своих собратьев, рознящихся от них лишь наличием добавочного измерения, нет, они - олицетворение попытки не просто наградить вещь знаком, но саму вещь, сплющив и обезводив, превратить в знак - так и имена.
Я смотрю на могильные камни - грузные, шлифованные с одной или со всех сторон и так же с одной или нескольких сторон исчерченные знаками, и внезапно мне становится ясным тот необъяснимый трепет, который возникает в моих руках, когда они дотрагиваются до какого-нибудь предмета, допустим, стеклянной пепельницы, или чашки с очень толстыми стенками, или тяжелой створки деревянного буфета, на которые затрачивается несколько более материала, чем требует его назначение; настоящий столбняк прибил меня прямо к паркетному полу перед трельяжем в одном весьма приличном доме - на подзеркальной тумбочке, в немом любовании тремя своими отражениями, возлежал дымчатый кусок розоватого стекла величиной с мою голову, гладко-выпуклый с одной стороны, с нефтяной радугой, прыгающей на другом боку, тяжелый и бесполезный, лучащийся сквозь неприметный слой пыли, - мне пришло тогда в голову сравнение с друзой горного хрусталя, но я его тут же отринул - в друзе, в куске лавы, на котором сыпью выступили кровавые гранатики величиной с муравьиную голову, мы не можем разгадать цель, даже не имеем права ее разгадывать, но здесь, перед трельяжем, в котором расслоилась собственная моя нескладная фигура, мне в голову вдруг ударило другое - что этот кусок… - впрочем, я, кажется, просил вас представить себе совсем другое, я всегда обманываю ожидание, и сам обманываюсь этим притворными ожиданием, словно по мокрым кладбищенским дорожкам, пристающим к носкам обуви, и впрямь могу довести вас до скромного надгробия Женечки Бергман, и еще буду уверять вас, что чувствую то же самое, что и тогда - ну кто не почувствует хоть чего-нибудь, увидев свое собственное имя ну хоть не на могильной плите, а просто на доске почета, или пропечатанным в газете, или вытатуированном на чьей-нибудь руке, но это - только в первый раз, а я имел счастье не единожды созерцать это надгробие, и то странное состояние трепета на кончиках пальцев и железного штыря в позвоночном столбе, о котором моя речь - это, не обманитесь, нисколько не напоминает мое семилетнее удивление пред буквами - быть может, то семилетнее удивление и появилось от того, что буквы в то время наконец стали совершенно прозрачными для моего уха, мне стало доступно беглое чтение - беглое, без сомнения, как раб, потому что нас тогда еще учили читать по букварю, чинно переступая с буквы на букву, со слога на слог, а я давно уже не нуждался в этом докучливом анализе и спешил одним махом слизать со странички накрошенные, как для голубя, строчки - с магазинных вывесок, с обложек журналов, с номерных автомобильных знаков, и - почему бы и нет - с могильных плит, нет, то было другое удивление, рожденное от самого камня, тяжелого, плотного, мокрого - как тогда, в мокрый далекий день. Имена представлялись мне сущностями летучими, было бы гораздо сподручнее закрепить их на тонких бумажных листах, летучих листах, прошитых, чтобы не убежали, суровыми белыми нитками и закатанных в переплет, а могильная плита - что-то совсем другое, выигрывающее именно своей тяжестью и почти полной лишенностью пустоты - ведь есть среди наших вещей такие, которые почти потеряли и вес, и плотность, которые на девяносто девять процентов состоят из пустоты, например - ребристые пластиковые стаканчики, или шариковые ручки, годные только на то, чтобы выпить из них кофе, исписать ими тетрадь и выкинуть без сожаления - но если это керамическая кружка с толстыми стенками и ручкой в виде головы феникса, или увесистый письменный инструмент с позолоченным пером, или плотная шелковая шаль, то мы десять раз подумаем, даже если этот предмет нам вовсе не нужен, прежде чем удалим его из своей жизни, точно так же, как десять раз подумаем, прежде чем спилим старую неродящую яблоню, затеняющую грядки с салатом - но что сказать о могильном камне, переросшем и перевесившем собственное назначение - нести два десятка букв, дабы напомнить нам об умершем.
Но я по глазам вижу, что вам как будто бы все уже совсем ясно, а между тем - ничуть не бывало: ясность приходит тогда, когда оставлено достаточно пустоты, куда она могла бы прийти - так, на приличном кладбище, а моя Женечка лежала на приличном кладбище, оставлено довольно места, чтобы люди могли ходить и обходить со всех сторон, и располагаться, как им будет угодно - а Женечка вовсе не оставляла мне места рядом с собой, и что это значило - "пойти к Женечке" или "навестить Женечку" - моему разумению не было доступно, и сколь ни удобно это было бы, и не просто для повествования, как можно подумать, а для меня теперь - признать раз и навсегда, что я сам себя все свое детство путал с покойной сестрицей и этому обстоятельству обязан тем, что повествование мое смутно и сбивчиво - однако предпочитаю обойти этот скользкий, несомненно от того самого дождя, вопрос. Заблуждение произошло, но не у меня - я, как всякий семилетний ребенок, был занят тогда вопросами гораздо большей важности, чем выяснение того, жив я или умер, и не могу теперь сказать, имел ли я основание тогда столь уж безоговорочно принимать в качестве аксиомы свое существование, - а когда я говорю об аксиоме, я не имею в виду никакого иного определения аксиомы, кроме того, негласного и неправильного, которое я и, может быть, сотни таких же, как я, несчастных получили в средней школе, и оттуда истекла моя наивность - во всяком случае, имел довольно веские основания считать себя живым, не претендуя на что-то большее. Претендовала на что-то большее, скорее, моя мать. Ну что бы этой разумной в большинстве случаев женщине не признать, что под влиянием меланхолического настроения и дурной погоды она не назвала одним и тем же именем в разное время разных существ - нет, она продолжала вести себя так, точно умерла не моя сестра, а я, или что никакого такого меня не было, что я умер, что ли, вследствие родовой травмы, - и все вокруг меня вели себя так, точно Женечка была моей генеральной репетицией, и я даже начал было подозревать, что никакой такой Женечки никогда не было, а была просто фигура речи, как иным детям говорят: Буратино так никогда бы не поступил, тогда как прекрасно знают, что Буратино вовсе никогда и не существовал так, как мы, и что нам, буде мы послушными, пришлось бы довольствоваться именно таким способом существования - в качестве литературного героя. Занятие литературой мне казалось тогда привлекательным именно тем, что позволяло создавать живые игрушки вполне по мерке своим вкусам и запросам, нечто вроде клонирования человеческих органов для имплантации, и таких книг было много, очень много, так, что я почти удивился, услышав когда-то "представляете, что выкинула Татьяна? Она вышла замуж!". Я счел это каким-то богохульным кокетством, ибо считал, что для поэта не было ничего проще, чем выдать или не выдать Татьяну замуж по своему вкусу, ну точь-в-точь какой-то барин-крепостник, и в доказательство этого своего барского права сам попытался - не в семь лет, добавлю, чтобы очень уж вас не беспокоить, а значительно позже - соорудить двух героев нарочно для того, чтобы их совокупить, но - вот беда, не застенчивость даже или невежество, а просто рука не поднялась, а когда поднялась - выписала что-то вовсе несусветное, какую-то несвязицу, прикидывающуюся литературной теорией.
Но моя мать, которую, полагаю, в достаточной степени уже обелил, чтобы опять разнести в пух и прах, вовсе не разделяла моих теорий, ни тогда, ни ранее. Она была экономна в иных областях жизни, скажем, экономила на детских вещах, наряжая меня в Женечкины одежки и принимая ношеные детские вещи, которые приносили родственники и друзья, говоря: возьми, Женя (мать мою, как вы сами, надо полагать, уже догадались, тоже звали Женечка Бергман), для малышки, - и она брала что попало - тяжелую цигейковую шубку, например, или чью-то играную куклу в плюшевом беретике и книжки, огромные, из плотного картона и с аршинными буквами, всякие, а уж если вам говорят: "у нас там всякие книжки, много", то можете не сомневаться, в девяти случаях из девяти это будет хлам, а десятый, исключительный, выпадает из сферы статистики и подпадает под сферу чуда, - но чудеса нам были недоступны, чудеса требуют, чтобы мы их желали. И - покорный поклон Татьяне - вместо того, чтобы говорить, как мне того хотелось, о чуде, и, как захотелось, о желании - мне на ум приходит что-то, что я вовсе не хочу говорить, но что само желает говорить, и тут уже принцип - говорить то, что знаешь, или же позволить быть сказанным тому, чего еще не знаешь, и за предпочтение мое мне еще в школе доставалось.
Был альбом в плотной суперобложке шероховатой фактуры, имитирующей, кажется, холст и очень скоро надорванной с одного края, так что сверкнул белый бумажный испод, альбом, по которому я в свое время набрался отрывочных сведений по христианству, точно так же, как по альбому репродукций Рубенса - об античной мифологии и женской наготе. Помню - разноликие Девы с Младенцами, впрочем, не только Девы, помню Мельпомену в холщовом балахоне, перевязанном бечевой, подставляющую свою бледность колючему степному ветру, выдувающему на заднем плане пустынный ландшафт с одним-единственным голым деревом, напоминающую скорее монахиню-кларисску, чем сестру Аполлона; тогда от этой картины у меня началась какая-то несмышленая приязнь к театру - но только не к тому театру, где из гулкой полутьмы партера нужно было обшаривать взглядом и слухом крошечную позолоченную светом сцену, где актеры представлялись мне взбесившимися райскими птицами в подсвеченной вольере с расписной задней стенкой - речь шла, несомненно, о другой трагедии, в том смысле, в каком говорят: это - трагедия его жизни, и эта бледная женщина, монахиня-кларисска, несомненно, пережила какую-то трагедию, стала пустынницей - встала на невысокий пьедестал, за спиной голое-голое дерево, и туда же вознесла свою горькую ношу, стала сама своей горькой ношей - потому Трагедия; картинка узкая и вытянутая вверх, не видно того, кто отчужденно блюдет ее одиночество, ожидая, когда она повернет свой лик, - и на следующей странице ее сестра с раздутыми щеками готовится отправить в узкую дудочку истомившийся в узилище воздух, будет воздух рваться в круглые прорези, а она тонкими пальцами преградит ему дорогу, а потом сжалится и отпустит один палец, и воздух с благодарным гудением устремится на волю, а она опять закроет прорезь пальцем, и так - все время, пока Евтерпе достанет дыхания. Так я лениво пытал свою память, без воодушевления, а только чтобы проверить ее зрение - иные обнаруживают, что с годами память начинает играть гиперболами, представляя все так, точно вы за эти годы выросли не на какой-нибудь метр, а на целую милю, или вернулись из Бробдингнега, а у других она становится дальнозоркой и подсовывает им микроскопические впечатления в подозрительной четкости, вплоть до первых кисломолочных воспоминаний, и будучи скорее праздным, чем воодушевленным, я чуть не проглядел хорошенькую картинку, обладавшую такой вот обманчивой четкостью - тоненький эллипс нимба, дрожащий вкруг молочного лба, Пресвятая Дева, опустившая глаза на колени, где почивает Младенец, еще один тоненький эллипс, темная, глухо застегнутая одежда, - я прекрасно помню эту картину неизвестного итальянского мастера, кажется - начало четырнадцатого века, "Оплакивание Христа", на следующей странице - обнаженная Венера с шарфом, поникшим в ее руках - это неправильно, шарф в руках Венеры должен плясать на ветру, скорее всего, полотно должно изображать не Венеру, а - тут мое сознание заметило, наконец, ошибку, и само испугалось - не того, впрочем, о чем вы могли подумать, вообразив меня, может быть, пламенным католиком-прозелитом, ничуть не бывало - но испугалось нарушить эту жуткую оговорку вмешательством экзегезы, ибо лучше было ее не трогать, иначе из нее потянется хвостик, длиннее и длиннее, и не то даже, что за хвостик вытянешь чертика, а то, что должны рядом с нами пребывать некие мгновения не от мира сего, и всего опаснее пытаться затянуть их в мир, страшнее - только самому быть затянутым в него; благословенны опечатки, внушающие страх - так, забыв переключить клавиатуру на кириллицу, я раз напечатал - "Души", а прочитал - "Leib".
Рассказал ли я своей матери об этом? - ах, да как я мог ей рассказать, когда я сам только что совершил эту дерзостную оговорку, от которой недалеко до самых низкопробных кинематографических эффектов - например, изобразить таким же образом Распятие, и все будут плеваться, и в газетах пропечатают гневные статьи ("от имени святейшего патриарха…"), и можно хорошо продать свою рассеянность, но что-то я, должно быть, все-таки сказал, потому что вскоре явилась голубенькая толстенькая книжка "Библейских Рассказов" с хорошенькими картинками, среди коих были, между прочем, совершенные фотографии, в том числе Руфь с тугим снопом, Святая Анна, в молитвенной позе и очень молодая, словом, это было естественным завершением моего детского воцерковления.
Гораздо занятнее показался мне старик, доставивший этот фолиант, а задолго до этого раздобывший где-то нашу роскошную фамилию, - было невероятно, что он получил ее в наследство, как все нормальные люди, а не выкопал в каком-нибудь карьере вместе с окаменелыми чертовыми пальцами, старинными монетами и прочей дрянью, которую привозил с собой показать нам. Я знал, что он - отец моей матери, но все равно как-то сомневался, точно так же, как он знал, что я - Женечка Бергман, но не мог бы в этом присягнуть. Голову свою в форме яйца он гладко выбривал, и я немедленно заподозрил в нем остроконечника. Сам я в упомянутый момент колебался - с одной стороны, разбивать яйца с острого конца казалось мне гораздо интереснее, чем с тупого, с другой - тупоконечники все-таки были отважными бунтарями и диссидентами, да и фамилия моя, в общем-то, предполагала сочувствие именно их клану, так что я пребывал в растерянности. В моей голове сложилась тогда - несомненно, плоды неподобающего чтения - весьма привлекательная, почти манихейская схема, в которой легко размещалось все, что я тогда знал - все ли? Неужто и впрямь я знал такую малость, но нет же, припоминаю тогда иное, болезненное - однако, столь же болезненным бывает рост - знание, которое не искало понятий вовне, в котором понятие готовилось образоваться само и с восторгом принимало извне слово, могущее его закрепить. Не обольщаюсь, понятия совсем слабенькие, еще на три четверти - мифы, но мифы и были для меня первым открытием, притом мифы, пересказанные в статьях художественных альбомов, то есть и мифы мои были сами собой только на четверть, но, во всяком случае, мне стало известным тогда, что одну и ту же богиню могут звать Дианой или Артемидой, и наоборот - совсем разные Девы с младенцами - от грудных до таких, что сами могут сидеть и должны называться не младенцами, а отроками - всегда одна и та же Дева с Младенцем. И совсем уж наоборот, меня могут звать Женечкой Бергман, и мою сестру, которой попросту не существует, могут звать Женечкой Бергман, и мою мать, и даже, о ужас, этого старого остроконечника тоже ведь кто-нибудь так называет - но при этом я - это совсем не моя мать, и не этот старик, и ничуть не моя сестра, хотя бы потому, что моя мать - женщина, а остроконечник - мужчина и старик, а сестра умерла, - и от ужаса у меня сводило скулы, а кончилось всего лишь тем, что перестал есть яйца - во всех видах.
В другой раз - если уж сказал про то, почему бы не сказать и про другое - меня начало преследовать другое видение, после того, как в один прекрасный день - конечно, день этот был уже очень далек от того времени, когда я разглядывал альбомы и размышлял о своей невольной симпатии к остроконечникам - выбирая цветы в подарок на день рождения (в тех случаях, когда с незапланированной регулярностью мне угрожает чей-нибудь день рождения, передо мной всегда встает дилемма - цветок должен быть очень дорогим, чтобы искупить мою невнимательность и одновременно - не очень дорогим, чтобы хватило на обратную дорогу, именно про это говорят: "дорог не подарок, дорого внимание") - я остановился перед совсем обыкновенным цветочным ларьком - был, помнится, март - и внятно увидел перед собой, не вместо, но поверх стеклянной стенки, за которой, укутанные в целлофан, дремали восковые замороженные лилии - внутренность полутемного, освещенного только маленькими бра, магазинчика. На высоких деревянных полках, на прилавках, везде - стояли прозрачные с одного бока футляры, вроде тех, в которых продают орхидеи или флаконы с духами - только много больше; внутри то ли в каком-то пахучем растворе, то ли в мареве замерли ярковолосые яркоглазые дети с жаркими и какими-то плавающими улыбками; я не успел разобрать, мальчики или девочки, или вовсе у них не было какого-либо определенного пола, - мне в лицо брызнуло: что вам? - и я устыдился, потому что продавщица цветов уже с минуту пыталась со мной коммуницировать, а я оставался слеп и глух. Растерявшись, я указал на плотную белую розу на метровом стебле, обутую золотистой пленкой, холодную, как пломбир. Всю дорогу в метро я пытался развить свое видение - тогда я был совсем еще простофилей, да что там - всю дорогу, сколько раз я брался записать его, начиная всегда осторожно, с какой-нибудь прелюдии - но куда там! Видение, коль скоро оно попало в наш разум, видит на десять шагов дальше, чем разум; я всякий раз сбивался на постороннюю тему, а когда пытался от нее увильнуть, платил за это полной немотой, если вы еще в состоянии поверить в мою полную немоту. Весь мой пыл свертывался, как свертывается пламя, когда слишком сильно поворачивают ручку газовой плиты, и я не мог от него даже прикурить - так меня оставалось мало; я не понимал, что это - возмездие за попытку заманить видение в свой, довольно-таки измышленный, текст.
Зачем это я - да только затем, чтобы представить коротенький набросок прошлого и будущего для одной из этих склонившихся над тетрадкой головок, головки Женечки, потому что все двадцать пять - ну, может быть, кто-нибудь заболел или прогулял - головок отлично видны, а одна, Женечкина (можно было бы сказать - моя, но я не уверен, действительно ли это дитя имеет со мной достаточно общего, чтобы так вот с размаху отождествить себя с ним) - не видна, потому что ее глаза с последней парты обшаривают видимую часть класса, в то время как рука уже закончила писать и возлежит теперь лениво, как кошка, на изрезанной перочинным ножичком крышке парты. Парта - странный механизм, нечто наподобие хряща, соединяющего сиамских близнецов, равно сгибающий их суставы, равно кривящий мягкие позвонки. Ну разумеется, мы близнецы, и в головах наших переваривается один и тот же текст диктанта, и наши руки выводят одни и те же слова, и даже ошибки у нас одинаковые, потому что Володенька постоянно косит в мою тетрадь и без разбора хватает верное и неверное, только я не могу засечь его на этом подлоге, да и какая разница, моя честь при этом совершенно не страдает, ведь мои ошибки происходят на десять десятых от рассеянности, говорят учителя, и я представляю себе это так: перед началом диктанта я весь сжимаюсь комочком, вслушиваюсь в одну точку, вот в эту, в сердцевине розовых губ оставленную для того, чтобы могли вылетать слова, и туда же отправляются мое зрение, осязание, страх - до конца первого абзаца, здесь у меня все гладко - но потом постепенно отщепляются, как волокна древесной ткани, по одному, ускользают от мягких бледных губ куда-то в сторону, где солнце разбилось об оконное стекло и выбросило на пол дюжины цветных полосок, и под ними вздрагивает чей-то синий рукав, и так же разбивается мое внимание на отдельные, похотливо-любопытные слух, зрение, осязание, а те в свою очередь расслаиваются, рассеиваются по классной комнате, ощупывают холодную батарею, свернувшуюся гюрзой под окном, стрясают серую мелкую пыльцу - а в это время рабочая рука продолжает механически фиксировать где-то на заднем плане выговариваемые слова, и они смешиваются с чудными шумами, ворочающимися в ушной раковине, и рука - без моего участия - вписывает в тетрадь эти помехи промеж узаконенных слогов. Сосед же мой, напротив, сжимается и сжимается в песчинку, так, что виден один - как у Циклопа - глаз, сканирующий мои каракули, чтобы затем с фотографической точностью перенести их в свою тетрадь, странный мальчик, один раз от чрезмерного усердия подписал свою работу Е. Бергман, но опомнился - это тоже можно назвать рассеянностью, но совсем другого рода, мне трудно тогда было понять это, меня обманывала тогда двусмысленность слова "чувство" - зрение, слух, радость, страх - все это были чувства, обладающие, казалось мне, определенной локализацией: зрение было в глазах, осязание - в коже, а страх, ненависть или любая другая эмоция - в душе, душа помещалась где-то к центру от сердца, там, где находятся ребра; я очень явственно чувствовал, как она иногда печет и нагревает кожу на груди. И представлялось, что можно избежать страха или ненависти так же, как избегают неприятного звука или режущего света, просто закрыв глаза и заткнув уши, или устранив источник неудовольствия, только часто бывало так, что источник устранялся, а неудовольствие продолжало печь, как печет глазное яблоко фиолетовый двойник вольфрамовой нити. Если сжаться в песчинку, потерять размеры, потерять вес, цвет, вкус - тогда и мир вокруг сжимается, заостряется, как хорошо очиненный карандаш, вжимается в тебя и начинает выводить самое себя на некоем пустом пространстве, и в конце концов вжимает увесистым росчерком в небо - так, должно быть, и происходит, это, должно быть, и называется - прожить полную жизнь, сжать волю в кулак, ведь что может быть полнее, чем весь мир в его совокупности, впечатанный в тебя разом и навеки, слитно, плотно, волосок к волоску - однако, так не продолжалось слишком долго, как я уже сказал, до конца первого абзаца, а к концу пятого я готов был уже подарить свое имя-фамилию первому встречному, потому что там, меж зубьев разрывающего шевелюру тополей дождя, все происходило совершенно не так, там происходило загадочное расслоение, словно мир оказался шпалерой, из которой по ниточке вытягивают основу и втягивают алую шелковую нитку, словно на уроках труда, только вместо шелковой нитки жидкое стекло, сквозь которое мутно просвечивает другая, вторым слоем прячущаяся ткань - после дождя мне раньше казалось, что мир не просто промыли, но как-то переделали, что бoльшая и худшая часть его ушла в землю, где ее ожидает целая галерея фильтров - таких же сетчатых пластин, только сложенных не вертикально, а горизонтально, пока не останется от нее кристально чистая вода, и затем, достигнув плотного и горячего центра земли, она с шипением отправится тонкими струйками обратно в небо. Мне хотелось знать, чувствует ли человек эти воздушные токи и не они ли прорубают в нем, поднимаясь, те тонкие личиночьи ходы, сквозь которые входят потом и расселяются внутри цвета, звуки и смыслы. Это был какой-то загадочный круговорот, в котором никогда не задерживалось слишком долго никакое сочетание, засечь который было бы так же нелепо, как пытаться уничтожить временной зазор между чужими движениями и моими - будь преследователь трижды или многажды быстрее меня, здесь преследование не имело места именно потому, что места было слишком много, так много, что куда не ступишь, везде обнаружишь место. Мне и тогда уже казалось, что место свое я ношу с собой, или что оно носит меня, поэтому странными казались окрики: "Бергман, пересядь на свое место!", "Бергман, твое место не здесь" - когда я изъявил желание общаться с токарным станком, и место мое было со мной полностью согласно, здесь на нем могли разворачиваться удивительные события - тонкое жужжание станка, пряный древесный запах, рождение стружки, прозрачной, как срезанный кусочек ногтя, больше ничего не схватилось, - а место мое, оказывается, за швейной машинкой, похожей на измазавшуюся таксу, с ножным приводом и кучей стальных крючочков с дырочками, в которые следовало продевать нить, а другая нить тянулась откуда-то из прикрытого железной пластинкой чрева, и они поминутно сцеплялись с каждым ударом иглы - один из таких ударов крепко прошил мой ноготь - и вновь разбегались по разные стороны хлопчатой клетчатой ткани. Я, собственно, всегда знал, что я - девочка, но не выражал никакого отношения к этому факту, не считая, что это к чему-то меня обязывает. Свое обыкновение называть себя в мужском роде я считал не более значительным, чем ставить в слове "творог" ударение на первый слог, а при случае говорил "сыр". Это не так существенно, если вспомнить, как мы фотографировались всем классом, и фотограф нам кричал: "а теперь скажите "сыр"!" - потому, что по-английски говорят "cheese", и губы растягиваются в улыбке, а по-русски говорят "сыр", и рот получается углами вниз, с выкаченной нижней губой. Но не станешь же лезть к фотографу со своими наблюдениями, тем более что дети, услышав ни с того, ни с сего про "сыр", сами по себе начинают хихикать, а потом привыкают. Так и я привык называть себя как положено, когда есть кому полагать, и как привык - во всех остальных случаях. Может быть, не последнюю роль во всем этом сыграла моя сестра.
Я, однако, очень мало тогда о ней думал - о сестре, у меня появилась другая сестра, тоненькая, бледненькая в своем шерстяном форменном платьице, эти платьица никогда не связывались в моем сознании с особенностями тел, потому что тела у нас всех были в общих чертах одинаковыми, одни - крупнее, другие - уже, были высокие и совсем низенькие, платья лежали на нас, как хитиновые оболочки, под которыми могло происходить все, что угодно - вставал ли дыбом пушок на загривке, отрастает ли втихомолку у моей соседки крысиный хвостик, все впитывалось в плотную ткань без остатка и в воскресенье отстирывалось и отпаривалось утюгом, так что мне представлялись скорее кларисски и францисканцы, чем просто мужчины и женщины. Этих последних я вполне умел различать, и никто не прятал от меня альбомов с репродукциями, и сам не прятался, и в то время, когда я пыхтел над обслюнявленной ниткой, пытаясь продеть ее в длинное узкое ушко машинной иглы, мне был приблизительно ясен механизм появления на свет человеческих существ - но все, что принято было с этим связывать - семья ли, влечение, любовь - автоматически присоединялось к обнаруженной мною манихейской схеме, чрезвычайно удобной в тех случаях, когда предстояло каким-то образом оправдать свое существование, но совершенно негодной и даже докучливой, когда оправдываться было не перед кем. Так, здраво рассуждая и признавая, с одной стороны, что я - девочка, а существуют мальчики (например, сосед по парте - мальчик, потому что списывает из моей тетради), и с другой стороны - что существует доброе и существует злое (каким образом злое могло существовать, об этом я не думал), я машинально накладывал одно суждение на другое и, машинально же сохраняя свое преимущество (тетрадь), делал безусловное заключение о том, что быть девочкой, несомненно, правильно, - такова извращенная силлогистика моего детства. Мне тогда неведом был путь, которым следует геометр, доказывая тождество двух треугольников, и я действовал методом наложения, вовсе не принимая во внимание коварное свойство микроскопических кривизн. В то же время во мне нарастала делающаяся все явственней склонность к существам одного со мной пола, представлявшаяся мне еще одним доказательством сопричастности им - все они ходили кучками и стайками, по две или помногу, некоторые - держась за руки, мне тоже хотелось держаться с кем-нибудь за руку, вплоть до того дня, когда сосед мой по парте куда-то испарился - воспарил, должно быть, в скарлатинной горячке - и рядом со мной посадили тоненькую, бледненькую, тоже только что спрыгнувшую с горячечной высоты в свое узкое тельце, в котором проглоченные за время болезни антибиотики выкосили все мягкие мхи, все земляничные кущи, сделав ее сухой и прозрачной, как пергамент. Посадили только оттого, что должен был кто-нибудь объяснить ей, что делать, потому что сама она, кажется, была совсем далеко, далеко и близко, и совсем рядом, как свет, рассеявшийся в воздухе.
Я ее ввел в курс дела, очень даже. Существо это звали (не подумайте только, что Е. Бергман, так далеко мой дурацкий юмор не заходит) Таня, и оно очень быстро освоилось в материале (кажется, то были простые дроби), и так же быстро о них забыло - так могло бы растение забыть о только что отросшем листе; способности к школьной науке были у Тани исключительные, но им как-то не придавали значения, и в первую очередь - сама Таня; урок математики, легко ей дававшейся, и литературы, на котором она никак не могла пересказать коротенького рассказа, были ей равно безразличны, а между тем она исправно готовилась к тому и другому; она была католичка и, наверное, теперь таковой остается, но никогда у меня с ней не было никаких особенных религиозных бесед, а в старших классах - никаких догматических споров, да и до старших классов мы вместе не доучились, потому что родители ее переехали во Львов и Таню прихватили с собой. Зато она любила мне рассказывать жития святых - откуда и завелись мои францисканцы - и в том числе, к моему нынешнему изумлению, историю с денщиком и дуэлью, - впрочем, я понимаю, что это было неважно, совершенно неважно. Сейчас, когда я пытаюсь по крошечным сохранившимся в памяти подобно горстке чечевицы эпизодам восстановить хотя бы приблизительный облик Тани, мне неизменно попадаются твердые камешки, чем дальше, тем больше, так, что скоро горка под левой рукой, где чечевица, исчезает, а горка под левой рукой, где камушки, вырастает, и при желании я могу выложить эти камешки в круги и полукружья, на манер древесных колец, уплотняющихся к середине - так, что к самой сердцевине совсем не остается зазоров, и время оказывается задавленным событиями - и Таня совершенно естественным образом исчезает, потому что от каждого камешка в памяти остается вмятина, а когда их становится слишком много, то образуется нечто вроде мозолей, в которых мутной жидкостью перекатываются мои собственные гнев, негодование, жалость, обида, - но если оставить память свободно расти, подобно дереву с разросшейся закругленной кроной, то из шевеления и шершавости выступает совсем другая Таня, та, чье место оказалось рядом с моим; мы слишком мало думаем о своих телах, и вместе с тем с чудовищной легкомысленностью доверяем им львиную долю своей памяти - но они снисходительны к нам и всегда помнят друг друга дольше, чем мы, и во всяком случае - беспристрастны; пока вербальные воспоминания выкладываются в мишень, где в самом яблочке происходит разрыв и память отнимает руку, тело мое легко встраивается в ту систему координат, в которой двигалось некогда рядом с Таниным - тогда как что, собственно, оно могло вспомнить - пожатие руки, случайное столкновение лбами - обе кинулись поднимать Танин карандаш - или вот Танины вещи, самые обыкновенные (ну что такое обыкновенный твердый карандаш, остро заточенный, я даже не люблю такие карандаши - они скорее процарапывают поверхность бумаги, а сами остаются такими же твердыми, заостренными, со свинцовым блеском, - а вот поди ж ты, и этот карандаш буквально прилипал к моим рукам, в нем мне чудилась та же упрямая твердость, что и в чертах Таниного лица - тонких, острых, быстрых, точно кто-то очень спешил, создавая их, и иногда острие срывалось, как альпинист, и в этих местах на ее лице оставались вмятинки вроде следов от оспы, и почерк ее хотя и носил вплоть до шестого класса детскую, вынесенную из прописи округлость, но уже был каким-то твердым, почти не скошенным, почти печатным. Удивительное дело - в детстве, когда явления роста происходят чуть ли не каждую минуту, когда из черт почти неопределенных, смутных, день за днем не выкачивается воздух, пока они не станут более-менее характерными, - никогда не был я столь уверен в самотождественности наших никогда себе не равных тел. Мне кажется теперь, что Таня всегда была такой - примерно с меня ростом, но я же всегда был ростом с себя, светлая блондинка, потом - чуть темнее, но тогда все становилось чуть темнее, однако продолжали носить те же имена, и руки были уже не руками, вбирая в себя частицы всех поверхностей, которых когда-либо касались, и становились твердыми, как дерево или мягкими, как чужая кожа, потому что чужая кожа, конечно же, не настоящая, она такая же, как та, что идет на перчатки или сумки, только нежнее, но мы не можем ей чувствовать, мы можем ее трогать, резать, кусать, жечь, и ничего не почувствуем - а надо бы, чтобы можно было растянуть ее так, чтобы или самому в ней уместиться, или под свою принять чей-нибудь вышедший из себя ум, и лицо не было лицом, потому что мне ли не знать мое лицо, неподвижное, как маска, прилипшее к костям черепа, тогда как другие читают на нем мое недовольство, смущение или скуку, словом - все части тела как-то перестраивались, изменяли свое назначение, проявляли порой самостоятельность, продолжая, однако, называться так же, как и прежде - и мы не замечали этих изменений, и продолжали жить так, точно это - наши слезы, наша дрожь в кулаках, наша боль или наше желание, и вместе с тем не хотелось упускать ничего из прошедшего, словно можно было уподобиться дереву с его кольцами, так, чтобы плоть ложилась слоями, вбирая в себя все наши прежние тела - и тогда мы поручали их памяти - фотографиям - семейным архивам, не замечая, что этим-то и отслаиваем их от себя, этим-то трепетом по отношению к собственному "детскому" прошлому навсегда отъединяя их от себя. Я поступил тогда совсем иначе, ибо неистово отторгал от себя свое детство, свое имя, свои воспоминания, мечтая в один прекрасный день собрать все в кучу - фотографии, записи, детскую одежду, самое имя свое, и утоптать глубоко-глубоко в мягкую, бродящую духом тления кладбищенскую землю - только этому я и обязан тем, что детство мое всплывает теперь на поверхности сознания причудливыми нефтяными разводами, перетекая из года в год, из тела в тело и обратно так легко, точно - ибо я понял это теперь вполне - у меня вовсе никогда не было никакого тела. То, что я называю своим телом, слагается из тысяч и тысяч прикосновений чуждых мне тел - ну а как быть с другими телами? Существовало же Танино тело, Танино место - слева от меня, твердый стул с облупившимся лаком на сидении, с исчерченной спинкой - нам всегда кажется, что чем больше мелких подробностей мы перечислим, тем правдоподобней получится, на самом же деле - тем менее вероятен будет успех, ведь встав единожды на путь поиска полного описания, с каждым шагом мы отступаем все дальше и дальше от цели, убеждаясь в принципиальной невыполнимости нашего намерения, и когда количество характеристик перевалит за сотню, то убеждаемся в полном своем крахе, ибо за это время не только искомый предмет перестал существовать, но и некоторые слова утратили свое первоначальное значение и обозначают теперь совершенно противоположное; поэтому я и остановился теперь на стуле, о котором, к слову сказать, я помню только то, что он, конечно же, был, иначе Таня попросту шлепнулась бы на пол, а о самой Тане почти ничего не говорю, ибо она гораздо ближе к видениям, чем к стульям. Видения проступают на стеклянной поверхности, переступают через поверхности, вырастающие в памяти, видения хороши тем, что о них можно упомянуть и броситься прочь сломя голову, - хороши только для тех, кто их боится.
Страшные места всегда притягивали меня, и сейчас притягивают - иначе не следовало бы и говорить всего этого, а просто ограничиться враньем. Слово "вранье" представляется мне дегидрированным словом "воронье" - этакое нагнетание слов, которые все мельче и мельче, теснее и теснее облепляют ветви оголенного старостью тополя, так что издали может показаться, что это не воронье, а листва, и если вы запустите туда камнем, то, может быть, две-три птицы шумно оторвутся от веток с хриплыми криками, но хуже, когда они сами вдруг ни с того ни с сего поднимутся облаком, сделают в воздухе небольшую дугу и исчезнут с глаз там, где небо соединяется с кромкой леса, - и не останется ничего, ни дерева, ни поля, ни леса, все опадет, как опадают взбаламученные чаинки в стакане. Может быть, всякое письмо есть взвесь, тонкое равновесие плотности и разрывов, и держится только благодаря этому своему свойству, а не тому, что мы пытаемся на свой лад как-то с ним управляться. Потому что не будь во мне страха, мне ничего не стоило бы вспомнить все, и с такой же легкостью многие вспоминают все, и в самом деле, разве не было такого, что был самый конец мая, и сполз, истратив половину своего тела на длинную зеленую шелковинку, червячок прямо на Танину туго причесанную голову, и я пытался его смахнуть указательным пальцем, а Таня усмехнулась, потому что я вроде бы погладил ее по голове, а я в свое оправдание показал ей червячка, прилипшего к подушечке пальца, и она его пожалела, потому что он ведь ничем ей не мешал, а я тогда фыркнул, что вот еще, червячка пожалела (видимо, был не очень последовательным манихеем), а она вдруг серьезно и совершенно как будто без связи со всем этим сказала: по-настоящему то, что мы привыкли называть злом и то, что имеется в виду, когда говорится, что Бог допустил в мире зло, соотносится так же, как то, что мы говорим, что Бог есть, и то, что говорим - у нас есть дом; или как то, что есть книга о преступлении, и преступление в нем - зло, а путь от него есть путь к благу, но в то же время в книге есть буквы, которые складываются в слова, и есть пробелы, без которых не могли сложиться слова, только мы об этом не думаем, когда читаем, потому что думаем о преступлении, - и я тут же вспомнил, что лет в пять, только научившись писать, сочинил какую-то длинную историю о людях, которые куда-то ехали, ехали, и было темно и опасно, и подписал - Джанни Родари, а когда попытался прочесть, то оказалось, что я не оставил ни одного пробела и читать невозможно; и сказал об этом Тане, а Таня засмеялась, и я уже без всякого смущения потрепал ее по голове, от чего немедленно облачко выбившихся волосков, слишком коротких для косы, вспыхнуло и показалось почти рыжим, -только этого, право же, не было, а если и было, то не в таких словах и не в таких жестах, и, может быть, не в таком возрасте. Было бы слишком просто объяснить наши привязанности в детстве тем, что любимые нами люди были как-то особенно умны, или очень уж нам созвучны, или хотя бы просто красивы - ничуть не бывало, и с годами они становятся все хуже, в девяноста девяти случаях из ста, причем тот, кто высказывается подобным образом, разумеет, как правило, под этим сотым себя самого - ваш покорный слуга не исключение, с той лишь разницей, прошу заметить, что самого себя в детстве я ставлю ниже, чем кого бы то ни было - а между тем откуда взялось, спрашиваю себя снова, это безоговорочное доверие к своему существованию с самого первого сохранившегося в моем воспоминании мгновения, откуда эта уверенность, что ни при каких обстоятельствах не могло случиться так, что под могильным камнем оказалась бы не сестра, а я, и никто бы не заметил подмены - и никогда не хотелось мне уступить ей этот кусочек времени, словно так уж необходим мне он был, точно я - такой, каким меня обучили и я сам себя обучил, с таким-то количеством солнечных и пасмурных дней, связных и бессвязных снов, - такой вот я и есть, а не все это в совокупности есть у чего-то, что вовсе не имеет в этом нужды - и при этом я отлично знаю, все то, что я могу и скажу, будет мной столько же, сколько будет оно Таней, и справедливее всего было бы отказаться вовсе от первого лица и писать так: "и он пытался смахнуть червячка указательным пальцем, а Таня усмехнулась, потому что он вроде бы погладил ее по голове…" - и оба были бы совершенно прозрачны, и мысли можно было бы так же легко вставить в головы, как слова - в уста, и снова я попытался бы соединить своих героев, и вот-вот измыслю вместо этого какую-нибудь литературную теорию. Видите, как просто меня сбить с толку - а между тем, единственное, что хранит меня - это страх. Страх не того, что подброшенный камень упадет на твою или чью-либо голову - а того, что упадет в небо. А может быть - и того, что упадет в небо. От этого страха нет спасения, он пленяет, и всякий раз, стремишься ли ты к нему или от него, ты в плену у него, и сам не знаешь, боишься ли более впасть в него или оказаться вдруг свободным; страх быть погребенным под собственным письмом пропадает быстро, быстрее, чем успеешь перечитать. Но тот страх, другой страх - когда ты попадаешь в руки его, то имена заступают места, и Она исчезает так же, как исчезаю Я, и остается одно лишь местоимение второго лица единственного числа, которое трепещет и ждет, когда имя займет свое место. И тогда можно писать без боязни, все, что в голову придет, насколько достанет места, хотя бы как в начале:
На голо отсвечивающих стенах распятые доски, как бабочки, шевелят траурными крылами. Курчавые мячики маленьких голов подпрыгивают и опускаются на правое плечо от усердия - коротенький диктант. Голос спотыкается на запятых и делает неуклюжие реверансы на каждом новом предложении. Время от времени раздается выстрелом: "абзац" - и трепещущие двоеперстия взлетают и приникают к краю страницы. Поверхность бумаги изборождена бледно-лиловыми полосками, розовые косые прожилки рассекают их на одинаковые параллелограммы. Сиреневый сгусток чернильной пасты отливает золотом, как брюшко навозной мухи. Бледные губы складываются в очертания гласных, верхняя губа прикусывает, сплевывает шипящие, давится согласными - в воздухе, нарезанный ломтями, плавает Паустовский.
Гейде Марианна
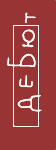
| © 2001-2003 Независимая литературная премия "Дебют" Made in Articul.Ru |
|