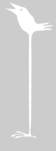| Документы | |
| Лица премии | |
| Публикации | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| Издательская программа | |
| Пресса о премии | |
| Новости | |
| Обратная связь | |
| Фонд "Поколение" | |
Публикации

“Дни становятся прозрачнее”
1.Я сегодня подумала: наш дом похож на корабль. Хотя это обычная многоэтажка на окраине города - девятиярусная потрепанная глыба. Мы когда гуляли с мамой, я попросила, чтобы она меня поставила у торцовой стены дома, а сама ушла. Стена огромная и глухая, как корма галеона у Маркеса. И вымощена крошечными белыми плиточками - так заведено было в семидесятых, - они вспыхивают на солнце, и тогда вся высоченная плоскость позади меня - мокрая от солнечного света. Дом последний в геометрическом нагромождении, за ним - конечный пустырь города, совсем далеко (ночью видны перебежки огоньков) - окружная дорога. Из-за этого, наверное, он как будто все уплывает куда-то, он на пороге, он несется в моих снах, стартует в пространство. С жестокой неоглядностью, как в юности, не в детстве. А я остаюсь одна в своем кресле на середине пустыря, и ветер струит песок из-под колес.
Когда-то (а может, такое бывает в жизни только в самом начале?) у меня был настоящий дом, не зыбкий. И время там было огромное и густое, вещи имели вековечное, неизменное место, пол скрипел, а в невообразимых лабиринтах кухонных шкафов жил настоящий бурундук, который убежал туда в незапамятные времена и с тех пор вел с бабушкой тайную и смешную войну. Тот дом был маленький и обжитый так, что я и до сих пор, наверное, ночью вслепую могла бы обойти его весь, ни разу не споткнувшись и не потревожив тишину комнат: отразившись в темном зеркале на стене коридора, осторожно размыкая деревянные жалюзи в дверном проеме, кончиками пальцев стирая пыль с боков черных шкафов. Он был целостным - отдельным и закрытым от всего внешнего.
Так вот, а этот: Он и сверху открытый, какой-то особенно поднебесный. Если вечером подняться на высоту последнего этажа (и даже чуточку выше - над ним), видно, как за дорогой начинаются поля и оттуда приходит слоями туман, дымчатая темнота. Раньше я любила стоять у огражденного железными прутьями края плоской крыши, дышать запахом мокрой земли, тлеющих листьев. Запах течет, наверное, и сейчас где-то там, наверху, только мне уже никогда не подняться. А внизу сухо, пахнет пылью и нагретым на солнце недвижным камнем.
После полудня, как раз когда я сижу у теплой стены дрейфующего дома, на нашей окраине совсем никого нет. Я прислоняюсь затылком к щербатой поверхности, ветер передо мной гонит волнами зеленые стебли каких-то клубящихся густых трав. Очень много пространства. Почти идеальная иллюзия: движения. Плыть или бежать по этим волнам, самой удаляться от дома беззаботно и независимо, как это и должно быть, как это было до:
Мне хочется плакать, и я опять смотрю на плоскость под ногами: прерывающийся, зернистый асфальт. Бетонная дорожка расходится в забитый крошкой провал под стену - лаз в подвал. Чуть присыпанные нежной серой пылью, там лежат останки кошки: горка свалявшегося меха, пергаментный череп с пустыми глазницами, очень жалко и нелепо торчащая из этой груды тоненькая косточка.
2.
Первый раз я увидела, как жизнь растворяется, четыре года назад, почти сразу после того, как мама переехала в новый дом и я стала все реже возвращаться из Москвы в остранившийся город. Я тогда приехала после долгого перерыва, как всегда шумная, смеющаяся, увлеченная каким-то очередным проектом. Не заметила, как тихо в комнатах. Вещи и люди привычно завертелись вокруг меня, захлопали двери дома, запахло едой, по углам появились чужеродные предметы, сдвинутые с привычного места и оставленные в недоумении: Мама стояла на пороге дальней комнаты. "Ты знаешь, бабушка приболела". Посторонилась очень медленно, соскользнула в сторону.
Комната выходила окнами на восток - бабушка всегда любила солнце. Маленькая, старенькая комната, вся в желтоватых кружевцах, уставленная ветхими ненужными вещами, - единственный оплот неисчислимых деталей старой квартиры: флаконы из-под одеколона, фарфоровая, склеенная у шеи и на запястье, балерина, декоративный светильник с Кремлем, заключенным в стеклянную призму: На кровати лежало что-то живое, бесформенное, с повязанным на голове белым дешевеньким платочком, с бессмысленным взглядом, провалившимся ртом. "Это инсульт. Не бойся - ей не больно. Она мало что понимает уже", - шептала где-то сбоку мама.
Нет, неправда. Она была заключена, закована своим недвижным телом, и испугалась, спряталась от всех. Но меня она растила, и баловала, и безумно любила, и видела так редко последнее время. Что-то из глубины нее смотрело на меня все так же ласково, тепло. По-старому. Правда, уже в последний раз. Потому что потом она действительно все дальше будет уходить от нас, и только наша память удержит в этом искаженном теле ее имя, ее земное присутствие еще два года.
Первое время так страшно было ночевать в доме, где за стенкой мягко свернулось настоящее безысходное небытие. Из дальней комнаты тянулся через всю квартиру блеклый свет фонаря - дверь мы не закрывали, чтобы слышать ее, а она кричала так, как будто умирала каждую ночь. Ей чудились тени и люди в темноте, при дневном свете - мы.
Я, помню, шла по странно сквозившему двору и все пыталась понять: что первопричинно - слабость разума или бессилие этого, жадно живущего, дышащего, облекающего нас вопреки растворяющемуся сознанию? Она волочила за собой тело, страшась смерти, - или ее организм чудовищным якорем не давал душе освободиться от несвежего, каждый день все того же, все такого же угла распадающейся ее комнаты?
И совсем немного по человеческим меркам оставалось секунд (так хочется еще мельче разбить монолитное время, чтобы казалось хоть чуточку больше) до момента, когда эта неразрешимая развилка будет струиться уже через мое сознание.
3.
Ну вот - понедельник. Я люблю выходные, когда мама дома. Она сильная. Иногда от этого кажется, что она жестокая.
Каждое утро почти равнодушно - только с легким раздражением - помогает мне со всем унизительным, со всеми этими ритуальными больничными деталями. Когда она уходит, мне иногда хочется закрыть лицо руками от стыда и бессилия - неужели я уловила в череде ее жестов и взглядов омерзение, след истерического желания бросить меня посреди всех этих посудинок, тряпочек, поддонов и выбежать, убежать? Один раз, в самом начале, она это сделала. Правда, я первая расплакалась у нее на руках, умоляла убить меня, как-нибудь покончить, освободить ее от этой мерзости, меня - каждое утро. И она опрокинула поддон посреди комнаты, и как-то очень странно застонала, и кинулась вон. А я лежала в луже, зажав уши руками. Тогда казалось - вот сейчас-то я умру. Вот сейчас-то что-нибудь взорвется в этой ненавистной живой, все живой голове, что-нибудь проломится, обрушится, наконец-то разлетится, придет в движение. Я билась об пол, только так ничего и не проломила. Хорошо, что мы на первом этаже живем. Мама потом вернулась молча, все убрала, посадила меня в кресло.
И что-то в ней изменилось с тех пор. Наверное, зря я боюсь, что она сорвется. Ее действия застыли, наполнились надчеловеческой механистичностью. Она больше не спрашивает меня, удобно ли она поправила подстилку, не ждет, когда я проснусь, опаздывая на работу. В общем-то, я большей частью действительно не чувствую - удобно ли. Я же не болею - я теперь просто живу в другой плоскости. Она все правильно делает. Мама сильная.
Быстро поворачивается ключ в замке - а вечером медленно: я понимаю, конечно, понимаю, мне и самой жутко просыпаться и радостно засыпать - от этого двойного скрежета веет почти что клаустрофобией. Теперь только стены, и углы, и шорох колес по линолеуму.
Но когда я одна - все иначе. Лучше, чище. Я чувствую запахи, звуки, блики квартиры. Я просто наблюдаю, как дерево у обочины: вот соседка отправилась в магазин, спустилась по лестнице, хлопнула тяжелой дверью подъезда, мелькнула в окне: Вдохнула ветер, пружинно оттолкнулась ногой от земли, взмахнула сумкой, - продолжаю я про себя. Бортик узенький, и не всегда прямо стоят бетонные брусочки; в подошву врезаются их углы, если оступишься и не попадешь точно на середину. А небо светлое, белесое, теней как будто и нет, хотя солнечно. В Москве тогда такие же стояли дни, но я замечала краем глаза - между домом и метро десять минут торопливого аллюра по аллеям. К маме приезжала только два раза за всю осень - и удивилась: какой тихий город. Какой маленький, почти отлетающий, неспешный! Какой прошлый, уже где-то с краю моей орбиты. Да и Бог с ним, но какой прекрасный!
У меня все было другого масштаба. У меня был ритм в крови и величественные декорации. Я вежливо сторонилась провинции - взаимно - и ежедневно цеплялась за проплывающие химеры, но столичного свойства, чтобы закрепиться, удержаться, соответствовать. Кажется, как раз тогда нашла какую-то постоянную работу, и вышагивала в людском потоке по утрам особенно уверенно.
Это была конечная осень. В ноябре мама увезла меня из Москвы. И все стало так.
4.
Интересно, сколько еще осталось? Дни, подвешенные в поднебесье, на полпути - они даже уже как будто немножко истлели, истончились; дождю уже давно пора прорваться сквозь них сырой серой агонией - но нет. Только слетают по одному листья с деревьев, только воздух особенно нежный и прозрачный, ведь всего-то дымчатые тени и остались от солнца, от лета. Все замерло, почти мумифицировалось.
Мне так, наверное, даже легче - когда смотришь из окна, а там то же, что в твоей голове: тишина, недвижность. И тело твое застывшее - как часть пейзажа: И еще можно гулять. Несколько раз на неделе ко мне приходит сиделка, и мы гуляем. Когда-то она приходила к бабушке, убирала за ней, кормила с ложечки. Неслышная, застенчивая и, видимо, очень бедная женщина - мама платит ей совсем немного. Даже несмотря на то, что она видела тление этого дома фактически с самого начала, она так и осталась чужой всем нам. Я сторонилась ее раньше, если мы вдруг пересекались в какой-нибудь из моих приездов. Мне было стыдно, что ухаживаем за бабушкой не мы, а посторонний человек, за деньги, хотя мама и говорила, что это не из-за брезгливости, а из-за недостатка времени. И потом, слишком большая пропасть была между вполне счастливой и самодостаточной московской студенткой и маленькой немолодой медсестрой, экономящей на еде и одежде в провинциальном городе.
Когда она стала приходить ко мне: Я просто отстраненно и вежливо объясняла ей свои надобности, а потом она научилась понимать меня без слов. И мы почти все время молчим теперь: она - из робости, я - только наблюдая, как в мой мир вторгаются извне.
Мы и сегодня гуляли. Объехали наш дом медленно-медленно. Четыре поворота, две области тени - одна от соседского монолита, другая - собственная, с северной стороны. Эта соседская тень приходится как раз на мою комнату: очень небольшой отрезок, в два окна - и как раз на мою комнату. Поэтому солнце там появляется только летом, на двадцать дней (я в этом году ставила маленькие точки на обоях. Оно ложится тихой и необыкновенно праздничной полосой от одного угла двери к другому каждый вечер, с шести до девяти. В нашей первой квартире окна были на юг, и летом стены золотились почти все время. Так вот, эта полоса как-то стопорит время, и пылинки неслышно дрейфуют, и кажется, будто пахнет бабушкиным печеньем с кухни. Драгоценней всего последние полчаса, когда свет невыразимо мягок - нежнейший персиковый оттенок белого на обоях, охваченные предзакатной истомой дома с золотистой рябью то там, то тут; все теплое и насквозь просвечивающее, как коричнево-бежевые дореволюционные фотографии. Я открываю все окна, и легкий сквозняк заносит детские голоса в комнату, звонкие гулкие шлепки - от четырех стен-домов маленького уютного дворика отражаются звуки ударов по развешенному на специальной трубчатой конструкции огромному паласу, - отзвук чьих-то легких каблуков, совсем нерасчленимый шуршащий шум: Это с закрытыми глазами. А так -почти тишина. Огромный пустырь, залитый кое-где асфальтом, ряд машин, и только в щели между дальними домами - отблеск от стекол старого района, где в глубине, совсем в зеленой тиши, в лабиринте бесконечных окрестных дворов и двориков - заветный, воздушный.
Каждый раз, когда мы огибаем дальнюю сторону дома, мне безумно хочется попросить сиделку, чтобы она как-нибудь свезла меня Туда - через пустырь, через дорогу, всего пара кварталов! Очень хочется Домой, но я боюсь. Боюсь даже не изменившегося облика моего детства - там, наверное, многое разрушилось, и построилось, и выросли деревья (смешные! Они одни пытаются поспеть за нами и сохранить тот же масштаб детских наших пейзажей, хотя человек поднимается все выше над травой, оградой палисадника, таинственными пещерами между кустов). Боюсь встретить людей.
Да, вести разносятся быстро, и особенно такие. Бывшие соседи уже, конечно, знают обо мне, как знаем мы, что давно умерли почти все бабулины подружки, которые собирались летними вечерами судачить у подъезда - почему-то всегда у нашего. Они сначала приходили в гости к ней, сюда, потом забыли ее, а большей частью, как и она, все мучительней стопорились в пространстве и умирали по очереди. Мы узнавали, сокрушались; в конце концов настал и их черед покачать головой, вспомнить в последний раз бабушку. Слишком близкие районы.
Но мне все равно так больно было бы показаться им. Новости в таких дворах обсуждают долго, с жадностью, и всегда сравнивают. Это как огромная коммуналка: очень редко за людей радуются, больше любят сочувствовать. Меня жалели бы особенно подробно, потому что я уехала в Москву и очень далеко отошла от них. Думала, что и от своего прошлого.
5.
Сегодня никто не приходит. И я почти счастлива. Вообще, чем дальше, тем безлюдней вокруг меня. Сначала я все кричала веренице скорбных родственников: оставьте меня в покое! Дайте мне жить, а не умирать в вашей жалости! Жить в прошлом, где вы есть, но другие. Не потому, что вы меня боготворили. И они ушли.
Но началось все с того, что с каждой волной возрастающей боли съеживался круг московских знакомых - я просто не могла везде успевать. Люди очень быстро забывают человека, выключенного из их рабочих маршрутов. Или Москва не предполагает иного отношения, чем скользящее вежливое любопытство? Или я сама дичилась тех, кто появлялся вокруг меня, и автоматически всегда зачехляла их в категорию "рабочих контактов"? Так или иначе, все друзья остались в моем маленьком городе и рассеялись за четыре года. А в новом феерическом беге я была чужая для москвичей и бежала на одну дистанцию с подобными мне "иногородними": мы дышали в затылок друг другу, и это были очень близкие отношения, но стоило отстать - никто не оглядывался. Когда я стала все реже выходить из дома, я плавно выпала из беззаботной стайки одиночек-сокурсников, еще до того - сама ушла с работы, когда поняла, что не справляюсь. Мне пару раз звонили - достаточно, чтобы разнести новость: я болею, и упокоить в этом состоянии отныне.
А я понимала, что все уже не так, что со мной происходит что-то страшное. Но не могла заставить себя пойти в больницу на другой конец Москвы - ждала, что пройдет само, - а потом это стало не так-то просто физически. Однажды, когда я уже выходила только в магазин, и деньки кончались, позвонила мама. Я взяла трубку, а она переспросила - кто это? "Это я, мамочка, - шептала я, - мне очень, очень плохо, я не знаю, что делать:" Она испугалась, но не подала виду. Я всегда говорила, что все замечательно. Что жизнь прекрасна. До сих пор помню, как слова застывали между нами, как в меня вклинивалась реальность моих фраз, а мама - добрая моя, великая моя мама - возносила их в область наркоза, легкостью обезболивала рвущийся мой голос. Она где-то нашла машину и приехала за мной, и увезла меня. Навсегда. Это мне врачи сказали через три месяца. Город, ветхий, тихий, как оказалось, нелюбимый, стремительно наполз и сомкнулся.
Так сомкнулось небо сегодня утром - серое, низкое. Перевели часы, и дни всё короче. С утра все равно встаешь во мгле, хотя бабушка тянет до последнего - сначала ставит на кухне чайник, потом жарит гренки, и только потом шепотом пытается разбудить меня. А пол холодный, потому что отопление еще не включили, и страшно выбираться из-под одеяла, бежать через длиннющий коридор в ванну: Но слышно, как шипят в масле гренки, пахнут так вкусно!
Проснувшуюся от ледяной воды, бабуля сажает меня перед зеркалом в коридоре и плетет многоярусные, восхитительные, самые красивые в классе косы - с зелеными или голубыми гофрированными лентами. Я подаю ей расческу, заколки, бант, и вдруг чувствую, как пальцы ее не слушаются, пропускают пряди, стынут от старости. Лента падает на пол. Бабушка растерянно смотрит на неуклюжие руки свои, и расплетаются собранные на макушке косички, падают вниз:
В больнице той зимой мне обрезали волосы, потому что я больше не могла причесываться сама и не хотела надоедать сестрам. Когда кончились три больничных месяца, настала просто глубокая осень всего. По ноябрю (а на самом деле - марту) ехал завывающий неспешный троллейбус, битком набитый мокрыми людьми. А где-то в уголке, зажавшись между липнущей болоньевой и потертой кожаной спиной, я смотрела из запотевшего мутного окна на текущий город и год - начинающийся, мертворожденный год. Мама привезла меня из больницы уже в инвалидной коляске.
6.
Деревенеют пальцы, а не должны. Это страшно. Врачи говорили мне тогда, что они локализовали воспаление. Может быть, просто становится очень мокро и мрачно вокруг - темное время суток, оно все более всевластно. Хочется замереть и спать - впрочем, куда дальше-то?
Надо, наверное, закончить историю, хотя я все никак не хотела рассказывать про начало. Тянула. И еще больше застревала во времени, совсем не в том времени, в котором мне хотелось бы быть: Ведь в таких историях всегда самое интересное - почему, что же случилось? Все соседки на лавочках замерли в ожидании. Это лакомая подробность. Потому что нелепая, почти смешная. Такая маленькая.
В декабре, почти два года назад, мама вызвала меня в город - умерла бабушка. Ночью у нее был третий инсульт. Мне не было страшно или больно - она слишком долго болела - но как-то странно, как будто кончилось память о детстве. Но сейчас - я не знаю, можно ли чувствовать эти вещи, - сейчас мне кажется, я тогда уже видела, как моя жизнь, почему-то сплетенная с ее последним днем, осыпается, рушится: Да нет, ничего я не чувствовала. Бежала от вокзала домой по скользкому льдистому асфальту, темнело. Снега не было еще, только лед и ветер. Почти перед самым домом - фонари не включали, и людей никого не было, все это складывается одно к одному, стоит картинка перед глазами, ведь это секунда до вздоха, секунда до шага, - я спутала землю и лед, черный, голый. И упала как-то особенно плохо - на спину. Поднялась немного ошалелая - больно копчик отшибла. Косточку.
И была холодная, сквозившая квартира - всё люди какие-то ходили, родственники. Мама - очень уже спокойная. Разоренная, разворошенная бабушкина комната. И много еще всего, неправильного.
А у меня была трещинка. Крохотная трещинка в кости. Никто не знал, я сама не знала. Поплакала о бабушке сколько прилично. Вернулась в Москву, понеслась дальше: весна, лето, море, вереница счастливых лиц. Все возможно!
Она жила во мне. Щелочка, из которой началось воспаление и поползло вверх по позвоночнику. Каждый день - двадцать четыре часа - по микрону. И вот уже нельзя остановить: время прошло и все дальше уходит. Как глупо! Я кричала в больнице, очнувшись от наркоза: "Это несправедливо! Это нелепо!" Но я еще не понимала, что такое неподвижность. Мне каждую ночь снились сны, в которых я хожу, двигаюсь совершенно нормально. Я все высчитывала - придется брать "академ" или наверстаю "хвосты" за весну, подтяну зимнюю сессию. Я же начала лечиться! Я же так редко лечилась, но если уж начала - все должно уже быть хорошо, все страшное позади.
А потом меня выписали - воспаление оказалось необратимым.
7.
Кончилась история. Все. Когда рассказываешь сны, они исчезают, вываливаются из памяти. И рассказанное прошлое становится мягче, не в фокусе. Невесомей. Прозрачней.
Ой! Снег, кажется, пошел! Белые огромные хлопья в темных окнах - надо выключить свет и прижаться лбом к стеклу. А там - ряд фонарей с радужными ореолами, расщепленными дымковым подмерзшим стеклом. Снежинки огромные, пушистые хлопаются и громоздятся в невесомые кучи. Сразу светло на всех дорогах, в каждом закоулке. Тихонько что-то позвякивает: чудеса, Новый Год:
А утро после такого вечера всегда солнечное, даже глазам больно, какое! И бабушка поет на кухне. Это значит - она гладит. Огромный стол, перегородивший все пространство так, что только протиснуться под ним - к подоконнику - и залезть на этот солнечный прямоугольник, раздвинув горшки с геранью. Задубевшее на ветреном балконе белье лежит бесформенной кучей совсем рядом, а она размеренно вытаскивает то один причудливый рельеф, то другой, разглаживает перед собой, поплевав на шипучий утюг, начинает скользить, ускользать:
Это совсем откуда-то издалека. Мне было лет пять, наверное. Последнее время мир все тише. И все больше вырывается из каждой прорехи моего длиннющего "сегодня" прошлое. Как будто лопнули перегородки между днями в памяти, и они проходят через меня единым потоком с утра до вечера.
Мне кажется, жизнь человека похожа на кокон. Он начинает с точки пространства и по спирали расширяет его, все быстрее вдыхает бесконечные валентности, чудесные вероятности. А потом - неуютно становится в открытом, всевозможном, неоглядном. И окружности медленно сокращаются - на выдох. Стены дома становятся крепче, переселения - страшнее.
Я задохнулась прямо посерединке. И мне некуда идти - выше. Я все ныряю, спускаюсь по спирали туда, где уже прожито. Двадцать лет разбега. Я высвечу каждый миг этого свободного настоящего. Я заставлю свое тело вспомнить каждый шаг. И я буду ходить, и танцевать, и бегать. И все мои дни будут светлыми. И дней не будет - только легкое движение от одного шага к другому. Только движение.
Чекушина Катерина
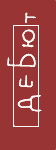
Документы | Лица премии | Публикации | Издательская программа |
Пресса о премии | Новости | Обратная связь | Фонд "Поколение"
Пресса о премии | Новости | Обратная связь | Фонд "Поколение"
| © 2001-2003 Независимая литературная премия "Дебют" Made in Articul.Ru |
|