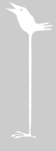| Новости | |
| Лауреаты | |
| Дебют 2001 | |
| История | |
| Документы | |
| Люди о премии | |
| Лица | |
| Обратная связь | |
| Фонд "Поколение" |
Дебют 2001
|
Ковалев Артем |
“Алфавит”
Алфавит - это когда буквы выстраиваются по порядку. Почему именно так, а не иначе? Это еще ничего - бывает, и люди выстраиваются. Иерархия букв, наверное, имеет бoльшие права на существование, чем иерархия людей. Или нет? Впрочем, и людей подразделяют по алфавитному принципу, - например, солдатские письма раскладываются по деревянным ящичкам согласно первым буквам фамилий. Не кажется: такая штука напоминает гроб?
- Возвращайся, возвращайся: - белые руки на худых плечах с серыми погонами. Всё серое.
- Обещаю тебе, - детские губы под редкими усами.
- Только берегись, хорошо?
- Ну, если я буду только беречься, я не вернусь с Железным Крестом.
- А мне нужен не Железный Крест, а ты, и обязательно целиком. Постараешься?
- Да: - он волновался.
Он был маленьким солдатом. Маленькие солдаты не хотят умирать. И большие тоже. Она поцеловала его почти как мама, и он побежал туда, куда пускают только солдат.
А в вагоне уже были и Барбер, и Хеллен, и Краузе, и Верхоф.
- Хенрик, это ты? - Хеллен шелестел шоколадом, когда показалась белая голова Ассмана.
Хенрик, Хенрик, наконец, наконец, хорошо, подумалось Верхофу.
- Ну как? - грубовато спросил толстый Барбер.
- Нормально, - с деланным равнодушием Ассман пожал плечами. - Она всего на два года меня старше.
Ассман - самый большой, ему уже почти семнадцать. В глазах мальчиков - почтение.
- Как она? - только Барбер постарался сделать вид, что для него здесь ничего особенного.
- Нормально, - повторил Хенрик, почти небрежно вынимая из левого кармана фото. Красивая темноволосая девушка. На обороте: "Грета Вейдеман. Обер-Вейсдорф, Силберштрассе, 9, где тюльпан, комната 2".
- У-у: - вырвалось у Верхофа. Самый маленький: длинная худая шея из серого ворота мундира, огромные уши торчком, бритый затылок. Еще очень румяное лицо - напополам резкой челкой.
Ассман: долгий взгляд на фото:
- Понимаете: - совсем по-другому, - она попросила, чтобы я вернулся. И я очень хочу:
- Мы все хотим домой, - так серьезно сказал Хеллен, а у самого крупные веснушки по лицу. Он любил шоколад и стеснялся перед школьными товарищами: они же теперь большие.
- Война есть война, но: - начал Краузе и понял, что говорить уже нечего.
Хорошо бы домой! Хорошо бы домой! домой! домой!
В тишине прошелестела оброненная Хелленом шоколадная обертка.
Не хочется больше говорить. Близорукий Краузе открыл было своего "Вертера", но в вечернем сумраке ничего разобрать так и не смог.
Девятнадцатого февраля одна тысяча девятьсот сорок пятого года посреди одной дороги лежал мертвый светловолосый мальчик. Небо еще резал удаляющийся звук мотора. Военная форма была перепачкана кровью и грязью.
Из канавы вылезали другие дети в измазанных мундирах. Их лица взяты утренним инеем. Последним выбрался пожилой унтер-офицер.
- Бывает и такое, мальчики, - строго сказал фельдфебель.
А ветер уже выхватил, подхватил что-то из мертвой руки мальчика. Листок заскользил над черной дорогой.
Улетает, улетает, она исчезает, исчезает, исчезает, она, она:
- Стой! Стой! - неожиданно закричал Верхоф, - Надо вернуть ее, вернуть!
Длинный Краузе:
- Вилли, пожалуйста!
Барбер, толстый Вилли Барбер, стоявший ближе всех, неловко перемещая крупное тело, побежал за листком, повторяя:
- Вернуть ее! Вернуть ее! Вернуть ее! - пока листок не оказался в его руке.
Железные птицы Королевских Военно-воздушных Сил тяжело плыли с дальнего задания. Часть боекомплекта осталась на борту: зенитчики "джерри" еще кое-где сопротивлялись.
- Я не собираюсь идти домой с недобитым боекомплектом, - бросил бомбардир.
Он был псих и бледный маньяк, этот парень.
- Что? - переспросил в рацию пилот.
- Ковентри, - напомнил бомбардир. - Заходи на цель.
У реки в темноте лежал живописный городок, а чуть выше, на пригорке - еще одна группа домов с острыми темно-красными крышами. Неплохая цель. И безопасная.
- Верхний Вейсдорф: - пояснил штурман, - зачем тебе это?
- Ковентри, - повторил бомбардир. - Вот зачем.
Штурман промолчал. Самолет пошел на цель, а за ним - всё ведомое звено.
Они проревели над узелком узких запутанных улиц и под грохот разрывающихся бомб - Ковентри! - с легким сердцем поплыли к одной из своих баз.
- ":И еще хочу сказать тебе, моя милая Грета, - дрожащим голосом читала фрау Шван, - что пока мы не воевали, а всё еще в пути. Так что у неприятеля не было ни малейшей возможности меня убить. Хочу сообщить тебе наш временный адрес в надежде, что ты напишешь мне ответ:"
Прервалась и подняла глаза на девушку. Девушка смотрела невидящим взглядом куда-то поверх седой головы фрау Шван.
- Там дальше адрес, но как же: - у нее побелели даже губы.
- Пропустите адрес, - попросила девушка.
Фрау Шван быстро перевела взгляд с Греты на письмо - мелькнуло окно, почти везде заклеенное газетами с готическими заголовками.
- "Мне повезло: вместе со мною служат мои школьные друзья: Вилли Барбер, Конни Хеллен, Людвиг Краузе, маленький Хайнц Верхоф, ему только что стало шестнадцать. А я задумал вернуться к тебе живым и здоровым, но прошу, чтобы и с тобой ничего не случилось. Я умру, если с тобой что-то произойдет. До свиданья, моя милая, мы непременно встретимся. Восемнадцатого февраля тысяча девятьсот сорок пятого года. Твой Хенрик".
- Любимый мой, хороший Хенрик, здравствуй, - пустые глаза Греты смотрели в темноту, - как я рада была получить весть от тебя и узнать, что ты жив и здоров: Я не слишком быстро?
- Я успеваю, - ответила старушка. Соседство иногда располагает к терпению. Девочка теперь совсем одна и:
- Надеюсь, тебе удастся писать мне постоянно, потому что твои письма - это всё, что у меня есть: Осталось: Нет, есть.
Остатки стекол между готическими газетами были темными: ночь.
- А у меня:
Фрау Шван терпеливо ждала.
Девушка опустила голову, задумалась.
Фрау Шван терпеливо ждала.
Девушка вновь подняла бессмысленный взгляд широко открытых глаз.
Фрау Шван терпеливо ждала.
- У меня всё идет хорошо. Я тоже жива и: И здорова. Правда, недавно здесь были неприятельские самолеты, но ни твой Унтер-Вейсдорф, ни мой Обер-Вейсдорф почти не пострадали. Так что не думай обо мне. Подождите, нет! Не волнуйся обо мне. Главное, возвращайся живым.
"Нежно любимая Маргарет!
Получил письмо. Очень обрадовался. Спасибо тебе. Что помнишь. Что пишешь.
Мы - на фронте. Уже воюем. Я жив. Слава Богу. Очень тяжело. Да, тяжело. Но ничего. Есть ты. Есть друзья. Всё будет. Будет хорошо. Главное, жив. Жив, здоров. Даже не ранен.
Надеюсь увидеться. Очень скучаю! Очень скучаю! Скучаю! Береги себя. Прошу, береги.
До свиданья, Маргарет. Хенрик Ассман. Обнимаю горячо".
- Послушайте же! - Хеллен дрожащими пальцами запихнул в рот кусочек шоколада. - Это же: это же обман!
- Ах, обман?! - Краузе задрал узкий подбородок. Клювообразный острый нос, прищуренные глаза. Похож на студента-поэта со своим Гете. - Итак, ты предлагаешь сесть и написать: Дорогая Маргарет! Считаем своим долгом сообщить, что Хенрик Ассман убит:
И сам испугался, что сказал.
Нет, не надо! не надо! не надо! не надо!
- Хорошо, хорошо, - быстро сказал Хеллен, тряхнув конопатой золотой головой. Губы - коричневые, пальцы - тоже. - Но почему именно Барбер? Он же пишет - совсем как говорит:
- Зато честно! Зато честно! - повторил Вилли, тяжело хлопая пухлой рукой по коленке.
Нет, почему именно он?
- Ну как же, Конрад, - неуверенно сказал Краузе, - Ассман, Барбер:
И они, кажется, стали понимать.
Игра, это игра, это странная! странная! Игра:
- Значит, я: - прошептал Хеллен, и его никто не услышал.
Только маленький Верхоф услышал. И промолчал.
Ему тоже очень хотелось жить. И он существовал - потихоньку, исподтишка, крадя у смерти минутку за минуткой, маленький, длинношеий вор.
Сидящая на скамье девушка повернула лицо к первому мартовскому солнцу. Чуть прикрыв глаза. Спокойное, ласковое лицо.
Пальцы нашли в кармане фартука оба письма Хенрика. Осторожно поднесла их к лицу, коснулась строчками щек, провела жесткими листами по розовым губам.
Спрятала письма Хенрика обратно в кармашек. Потом бережно, чтобы не уронить, нащупала палочку. Поднялась с лавочки, неуклюже обошла ее и стала медленно подниматься по ступенькам крыльца.
Черный кованый старинный тюльпан рядом с ящиком для почты был искорежен и погнут.
Удары тяжело ложились по обеим сторонам - всё ближе, ближе, ближе!!! к окопам, а Верхоф, скорчившись втрое, втянув голову в узкие плечи, затаился на самом дне. Белое лицо - белее обычного, дрожащие темные синие губы:
За что? за что? за что? за что? за что? за что? за что? за что? за что? за что? за что?..
Я хочу, хочу, хочу остаться: Боже, Боже, Господи, Господи, оставь меня, я хочу жить, жить, жить, пожалуйста, пожалуйста, ну пожалуйста:
Вдруг всё закончилось. Хайнц увидел фельдфебеля Боденхеймера - открытая пасть и полная тишина. Крикнул ему что-то, проскакивая мимо. Мелькнул Хеллен. Тихо.
Тонкий птичий нос Краузе:
- :авай, вставай, пошли, Хайнц, быстро, быстро!
В ответ на испуганный взгляд:
Барбера засыпало.
Вилли!
Хеллен спрашивал: почему Барбер? почему? почему?
Хеллен!
Зачем это нам? зачем мы начали? игру? игру?
Когда откопали Барбера, он уже перестал жить. Даже если бы нашли раньше, это не помогло бы: осколок снаряда попал Вилли в толстый живот. Как больно: Слезы по рыжим веснушкам. Хеллен отвернулся: хорошо, что никто не видел. Стараясь не смотреть на живых - как-то не так - Хеллен быстро расстегнул пуговицу на тесном мундире Барбера, нашел фото и сразу спрятал в свой карман.
Страшно и тошнит.
Вечером он писал Грете о том, что война - это страшно тяжело, что его школьные друзья умирают один за другим, но он, Хенрик Ассман, обязательно будет, будет, будет! жить: Наверное. Правда, с шоколадом совсем плохо: домашний кончился, а здесь не достанешь, да и дома теперь тоже, и побереги себя, милая Грета, я не вытерплю, если:
А мальчик с тонкой шеей испуганно смотрел и моргал. Зачем они? зачем их? зачем? Если это так, то для чего это так?! Ведь: Ассман, Барбер, Хеллен и: и Краузе. И Ве: Верхоф?!
Хеллена обнаружили светлым весенним утром. У него была пуля в голове. Снайпер попал ему в правый глаз, он же не знал, что это Конни, а старый фельдфебель Боденхеймер сказал, что он умер быстро и почти не мучился, а гауптман Лейзевиц сказал, что желал бы всякому умереть именно так.
Почему они так сказали? почему и они? и они?!
Осталось двое.
Среди вещей Конрада они нашли последний кусочек шоколада, отложенный про запас - он же не знал, что снайпер будет убивать его, - ответ Греты на письмо Хеллена и ее предыдущие письма. И вот, наконец, фото ее самой - с адресом.
Какая красивая. И большая. Только сейчас Хайнц как следует рассмотрел ее из рук Краузе. Даже лучше, чем он сначала увидел. Красивая: Красивая: Красивая:
Краузе вложил фото в свой том Гете. Тонкие длинные белые пальцы на черном переплете.
Он уже что-то писал поверх книги на белом листе - странное письмо: короткие строчки посередине, одна под другой. Он знал как, он же был поэт, наш Людвиг.
Был: Нет, нет! зачем? зачем? зачем? Стой!!!
- Людвиг!!!
Краузе прищурил близорукие глаза. Он и раньше считался самым умным. В его не по-детски проницательном птичьем лице была уверенность:
- Ты же давно всё понял, Хайнц. Ей это необходимо. Не знаю, когда это кончится, - неопределенный взмах рукой. - Но потом нас может не быть. И ее тоже. Но пока мы живы, то есть кто-то из нас, - жив наш, ее Хенрик Ассман, и она будет жить. Ты же хочешь жить?! И она тоже. Это началось, и не в наших силах это нарушить: Это как обязанность воевать, понимаешь? Ты должен, это началось до тебя, ты будешь делать это. Да! Да?
- Да:
- Хайнц, ты не выбросишь карточку, когда: Когда она окажется у тебя?
- Не выброшу, - сказал Хайнц.
Черный переплет "Вертера" Хайнц нашел в избитой гусеницами земле недалеко от танка, подбитого гауптманом Лейзевицем. Танк сожгли не сразу: дети боятся танков. Да и взрослые тоже.
Совсем рядом с танком нашли и самого Краузе. Хорошо, - когда Хайнц отворил книгу, в ней оставались и ее ответ, и фото, и не надо было копаться в том, что:
Вот и всё: всё: всё: всё: Всё! Теперь я: Я?!
Он весь дрожал, капли пота текли в рот через верхнюю губу, - когда он сел писать письмо ей. Он втайне мечтал об этом и боялся этого, не людским чутьем понимал: после этого действительно всё: Всё!!!
Но все-таки зачем? зачем? зачем? зачем? зачем? зачем? зачем? зачем? зачем? зачем? зачем?
И почему я? я? я? я? я? я? я? я?! я?!! Я?!!! Почему обязательно и одно, и другое? и одно, и другое, почему? почему? обязательно?
"Милая, любимая Грета!
Да, я по-прежнему всё еще жив, как и обещал. Но я устал, я так страшно устал, и я боюсь. Да, да, да, я знаю, Грета, что мужчина, тем более немец, не должен бояться, но я не понимаю, зачем всё это, я хочу жить, мне бы только жить, я сделаю столько хорошего, я хочу быть с тобой, всегда, а не только в этом письме, хочу радоваться, и еще ходить по траве, и чтобы меня не убивали и не заставляли заставляли умирать, все мои школьные товарищи убиты их больше нет я последний я следующий это игра игра игра и она затянула она заканчивается это долг обязанность как капкан но я не хочу в нее играть я хочу уйти наконец увидеть тебя
Я хочу сказать: ты, наверное, будешь презирать меня, хотя я верю, ты поймешь, потому что любишь. Послушай: мертвый солдат никогда не будет лучше живого мальчика. Как бы он ни был хорош:"
Щеки снова горели - даже сильнее, чем тогда, до всего этого. До этого: Щеки горели - от весны, от возбуждения, от первого майского ветерка - и почти не от стыда за то, что он бросил бесполезную винтовку и убежал. А страх - что "они" поймают и убьют его как дезертира: Нет, теперь уже не убьют.
Но ладно, ладно, ладно, ведь он жив, жив, жив! Дети любят жить, И взрослые тоже. И даже большинство стариков, посылающих их умирать.
:Вот странный цветок. Как удивительно изогнут: искорежен: раненый дом и: и железный тюльпан! "Силберштрассе, 9" на поцарапанной осколками доске:
Всё очень просто, Хайнц! Свернул не влево, к своему Нижнему, а направо - к Верхнему Городу: Задумался. Было о чем. Ничего, ничего, здесь всё рядом.
На скамейке перед изувеченным домиком - живая девушка с фото. Он узнал это лицо и этот взгляд:нет, почти этот взгляд. Она смотрела на него - она смотрела сквозь него - она его не видела!
Подождите: Ну конечно, она должна была узнать, что письма написаны разной рукой. Значит, кто-то чужой - кому всё равно - читал ей. Значит:
Всё правильно - тот воздушный налет на Вейсдорф в феврале: раненый дом: искореженный тюльпан.
Он ступил чуть ближе, он должен был, нет, он хотел рассмотреть ее лицо.
Тихий скрип песка под сапогом. Она вздрогнула, подняла голову, полуразвернув ее - как бы одновременно прислушиваясь и присматриваясь. Неуклюже - так смешно, что захотелось заплакать.
- Кто это?
Это движение, эти случайные слова всё ему объяснили.
Он понял. Она всё знала с самого начала. Они подписывались Хенриком Ассманом, но писали, писали-то каждый по-своему! И каждый, в сущности, свое и о себе. Но почему тогда она продолжала?.. Ведь это совсем другие, чужие люди:
На самом деле это больше всего было нужно им самим, но она и это знала. А может быть, это оно и есть, ну, когда делаешь что-то только потому, что знаешь - другому это необходимо:
Таиться было незачем, Хайнц подошел и сел рядом. Но тут спавшее было напряжение вновь сковало его, захлестнуло с головой. У него явилось ощущение быстрой тревоги, когда ожидаешь вопроса, и, кажется, догадываешься, о чем он, и еще надеешься, что его не будет, и лихорадочно ищешь ответ, и не находишь, не находишь:
И она что-то тихо сказала, он не понял. Она слишком хорошо слышала, чтобы говорить громко.
Она повторила, волнуясь, разглаживая косо сложенное последнее письмо:
- Хенрик, это ты?
- Это ваше произведение, назову так, я прочел, - сказал средних лет серьезный человек. - Кстати, как правильнее: "прочел" или "прочитал"? Или всё-таки "прочел"?.. Эмм: Что вам сказать, молодой человек: Я вас понимаю: желание выразиться, назову это так, написать что-то такое, поймите меня правильно: Эмм: Эрих Мария: Ага. Но есть еще и такая мелочь, назову это так, знаете ли: вообще смысл, значение, нечто, обуславливающее единство, понимаете меня?: Вот скажите мне честно, как вы думаете, - назову это так, - присуще ли это вашему произведению?
- Я не знаю, - признался я. - Но должен же быть какой-то смысл у алфавита:
Ковалев Артем
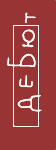
| © 2001-2003 Независимая литературная премия "Дебют" Made in Articul.Ru |
|