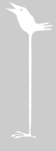|
Австралийский связной |
(Повесть)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯТРАНЗИТНЫЙ ДВОР 1У каждого человека есть история, которую бы он хотел рассказать. Спокойно сесть, чтобы не отвлекали по пустякам, собраться с мыслями и вспомнить свое прошлое, потому что прошлое практически неизменно. Чего не скажешь о настоящем: не успеешь глазом моргнуть, как оно переходит в ближайшее будущее.
Такая история всегда несет в себе какое-то первостепенное значение. По крайней мере на определенном отрезке жизни. Тебя так и переполняет желание поведать о том, что ты знаешь и пока еще помнишь. Но пытаясь сделать это, сталкиваешься с внезапной и главной преградой. То, что только что казалось, да и все еще кажется важнее всего, вдруг теряет на бумаге или в устном рассказе весь свой высокий смысл. Облеченное в слова и разбитое на абзацы, становится каким-то мелким, будничным и банальным. Ну да, ну было дело. Всякое бывает, случалось и не такое. А вот, слышь, дай-ка лучше я расскажу. И пошло-поехало все вкривь и вкось. Закачаешься, за голову схватишься.
Но дело ведь не только в этом, а? Ведь само желание понять важнее созерцания словес. Вот в чем в первую очередь нуждается рассказчик, если он, конечно, уже не до того себе на уме, что свято верит: заполненные его рукой бланки квартирных платежей - самое стоящее, что было создано за последние годы в мировой литературе.
Сколько мне тогда исполнилось лет, с какого момента начинать свою историю? Это было в восьмидесятых. Но иногда мне кажется, что с той поры минуло совсем немного, что это было вчера. Особенно когда я, мысленно, уже перед сном, уношусь в события десяти, пятнадцатилетней давности.
Сейчас у меня достаточно времени, чтобы рассказать вам свою вполне незатейливую историю. Я так долго держал ее в себе, что теперь мне действительно кажется: нет в ней ничего такого. Вряд ли я сумею передать вам ее так, как она случилась. Согласитесь, вещи таковы, как они есть, либо таковы, какими ты их помнишь. Я расскажу свою историю как помню.
2Наш двор на улице Московской был расположен в самом центре Фрунзе. Убедить нас в обратном было бы тогда пустой затеей и бездарной тратой времени. Наша жизнь в основном протекала в пространстве, ограниченном тремя сталинскими домами. Ну а то, что простиралось и происходило за пределами этого мирка, все равно казалось временным: школа, работа родителей, походы в кино и поездки на Аэропортинское озеро или Большой Чуйский канал, прозванный бочкой - БЧК.
Не скажу, что мы, как умницы на загляденье, проводили все свободные часы во дворе и носа не казали на улицу. Просто то, что находилось на расстоянии нескольких кварталов, было уже до того освоено и исследовано нами, что и Дворец культуры, куда мы бегали на фильмы, и хлебную, и "Спорттовары", и сквер Тоголока Молдо, и даже Костовое поле мы считали почти своей территорией.
Как описать наш двор, чтобы вы поняли, какой он был замечательный? Вспомните то место, где вы сами жили в детстве, и тогда вы поймете, что я имею в виду. В середине двора - круглый бассейн. Старожилы поговаривали, что, когда мастеровые только закончили приводить его в божеский вид, фонтаны украшала идиллическая композиция: изящно изогнутая цапля, поднявшая клюв над разлетом трепещущих крыльев, и две застывшие перед этим невиданным изваянием царевны-лягушки. И мы верили, что так оно и было, потому что верить красоте, пусть и разбитой позже на черепки, было куда приятнее, чем любоваться на торчащие из зацементированного дна ржавые железные штыри.
От этого мы не любили бассейн меньше. Конечно, трубы давно пришли в негодность, и водой он наполнялся от силы раз в год, да и то если кому-нибудь из взрослых удавалось уломать пожарных опустошить в него резервуары своих служебных машин. В этих особых случаях мы всем скопом бросались на уборку запущенного лягушатника и драили его что есть силы, натирая стенки и дно разве что только не мылом. Зато наши труды всегда бывали вознаграждены двух-трехдневным бултыханием в относительно чистой луже. Самые отчаянные, правда, лезли в воду и неделю спустя. Но скрежетать пузом по дну в обмельчавшем из-за усердных разбрызгиваний аквариуме и разгребать покачивающийся мерно, словно поплавки, сор было уже не так весело и заманчиво.
В остальные же времена бассейн тоже не скучал. Его стенки были будто предназначены для игр в сталкивание, догонялки и "выше земли", что нередко заканчивалось для особо торопливых или чрезмерно неповоротливых разбитыми носами.
Таких мест, где мы бы могли провести время и испытать свои кости на прочность, было в нашем дворе хоть отбавляй.
Чего только стоили две беседки, возвышающиеся, подобно часовым, над газонами напротив калиток, ведущих в наши владения. Особенно удобна была правая. И не только потому, что она стояла неподалеку от моего подъезда. Просто в ней еще оставался врытый стол для заядлых доминошников, а стены были целы. К тому же рядом, почти вплотную, росла акация. И это были огромные преимущества.
Домино нас интересовало посредственно. Но стол вполне годился, чтобы резаться в карты, и щелкать до умопомрачения в коробки: на счет или по три копейки за кон. Деревянные стены из шашечно-гнездовых перекладин опять же подходили для догонялок (казалось, мы были готовы преследовать друг друга где угодно, но только не на земле). Акация позволяла забираться на крышу нашей крепости, что сделать иначе было делом почти неслыханным. Края крыши выступали гораздо дальше самих стен, да и толь, которым ее покрывали, уже давно отошел от настила и ходил ходуном. Так что цепляться за него было сущим лихачеством.
Ну а еще оставались деревья, по которым у нас умел лазить каждый; бомбоубежище, подвалы, чердаки, мастерская художников, закрома кладовщика-спекулянта из комиссионки, расположенной в одной из наших трехэтажек, цистерны с газом - возле них, на пиках ограждения - мы подкарауливали стрекоз и много чего другого, всего так сразу и не упомнишь.
Наш круг не был разношерстным. Но у старших парней, что учились в классах седьмых-девятых, имелись свои интересы. Кто-то уже поговаривал о девчонках, и их пространные рассуждения об устройстве некоего загадочного "типа напалечника" были далеки от нашего понимания. Кто из мелких ни пытался взять в толк, что это хоть примерно такое, старшие ограничивались таинственно-абстрактным объяснением: "Подрастешь - узнаешь". Что только наводило наши пытливые умы на саму собой напрашивающуюся догадку: ни Макс, ни Саня, ни Андрей из углового подъезда сами не знали, что это за штука. Однажды мы пришли к выводу, что этого не знает даже Стас, а уж он-то ходил в школу с портфелем-"дипломатом" и был самым умным из нас.
Впрочем, иногда нас допускали в общество взрослых парней. Случалось это за игрой в пробки или в альчики - бараньи мослы. Ну а уж когда с нами соглашались поиграть в прятки, нашему ликованию не было предела. Понятно, что водить, как правило, приходилось нам. Старшие договаривались не находить друг друга. Но и мы были не лыком шиты. Поэтому чаще всего у стенки, по которой надо было хлопать ладонью и кричать: "Тукила-тукила, я замаился", стоял дурачок Аскерушка.
Разных считалочек Аскер знал больше всех, из-за чего обижался на свою участь лишь изредка, когда ему приходилось вести конов девять-десять кряду. Затаившись в кустах, мы слушали его не знающие истощения присказки: "Корыто-корыто, скоро глаза мои будут открыты", или: "Я считаю до пяти, не могу до десяти". Причем дальше рифмованные оправдания, почему он считает именно до пяти, а не до десяти, растягивались на пару минут, хотя по правилам счет полагалось довести всего до тридцати очков и со спокойной совестью идти искать.
Но мы старались не испытывать его терпения сверх меры. И поэтому порой специально попадались ему на глаза. Дело в том, что водил Аскер честно и уходил от заветной стенки на порядочные расстояния, что позволяло нам "замаиться" без труда.
Да и почти всегда было можно обвести ведущего, поменявшись в укрытии рубахами или куртками. Тогда все списывалось на то, что замечен был не я, а, скажем, Димон в моей футболке, и считалось, что вышли "обознатушки-перепрятушки". Были и другие каверзы. Чтобы сбить разыскивающего с панталыку, уже выбывший из игры мог предупредить кого-нибудь из затаившихся о его приближении. В таких случаях что есть мочи кричалось: "Топор-топор, сиди как вор и не выглядывай во двор!" Тот же Аскер, в надежде кого-то засечь, ломился в кусты по выбранному направлению, а в это время все оставшиеся игроки выскакивали из своих тайников и неслись во весь дух к контрольной стенке. Разумеется, никакой "топор" и не думал никуда выглядывать. В том месте попросту никто не прятался.
Ну и, конечно, всем двором мы частенько совершали вылазки в сквер Молдо - обносить фруктовые деревья: яблони, урюк, груши. Старшие трясли стволы. А мы, в тех случаях, если плоды не поддавались "взбучке", карабкались на самые высокие и тонкие ветви, что могли выдержать только наш вес.
При других обстоятельствах наши пути со старшими чаще всего расходились.
3В нашей компании было несколько человек. Мы с Димкой Дроздовым не претендовали на какое-то особое положение в ней. Просто никогда не поворачивались спиной к тем, с кем общались, и постоянно держались вместе, хотя он и старше меня на два года. Двери наших квартир выходили на одну лестничную площадку, что тоже не могло нас не сблизить. Тем более что его и моя бабушки были давними приятельницами, обе прошли фронт, и дня не бывало без того, чтобы они не проведали друг друга.
Их привязанность передалась нам. И со временем мы стали не разлей вода. Еще мне очень нравилась младшая Димкина сестра Жанна, думаю, отвечавшая мне взаимностью. И Дмитрию, на правах старшего, доставляло немало удовольствия покровительствовать нашим "зрелым" отношениям.
Для пацанов поменьше такая ситуация была в диковинку, но зубоскалить открыто они не решались. Видя, что мы везде появляемся вместе и довольно неплохо проводим время, к нам тянулись. Мы не особо лезли к старшим, не старались примазаться к их умным разговорам и в то же время не сторонились тех, кто был младше нас. А этого для них было уже вполне достаточно.
4Семья Турабековых по числу детей самая большая. У тети Киры - старший Альби, Мариам и Аскерушка. У ее сестры Розы - Эльдар, Тимур и маленький Ренат. У третьей, Людмилы, - Сашок. Кто чей, всегда путали, да и эти выяснения мало кого волновали. Было в их крови понамешано, в быту - шумно, в четырехкомнатной квартире - неухоженно. Жили гвалтом, перебиванием и передачей одежды по наследству. Но старались, чтобы все как у людей, дети обуты-накормлены, и кривотолков в свой адрес не допускали.
Отец был только у Сашка, поэтому жили они втроем, своей семьей, отдельно - в одном из микрорайонов, бывали наездами. Мать Эльдара со своим разошлась. А муж тетки Киры много лет назад повесился на трубе в кухне. Это замалчивалось. Но многие знали. Как-то рассказали и мне, с условием, что буду держать язык за зубами.
Альбиня - взрослый, к нему не подступишься. Эльдар - погодок, чуть косоват, улыбка хитрая мелькает. Тимица, брат его, пока еще в мелюзге. Ренатику своего второго дня рождения ждать и ждать. Мари - просто красавица. Огромные глаза, длинные ресницы; во взгляде - что-то восточное, а как школьный передник белый наденет - не оторваться от Маришки.
Только с Аскера спрос невелик. Выводит в прописи по-зеркальному, шиворот-навыворот, и все тут. Да читает, как ясельник, по слогам, силится сложить буквы. Ну, его в спецшколу и определили. Выправится, говорят, переведем обратно - еще догонит!
Куда там! От них потом выберешься.
Спросишь его:
- Как дела, Аскерушка?
- Да вот, - отвечает, - завтра в кино ходил.
Завтра!
- Вчера, - объясняешь ему. - А завтра только еще наступит.
- Завтра?
- Да, завтра. Завтра наступит завтра.
Чудак!
И главное, хоть бы раз название фильма вспомнил. Видно, у него не только письмо обратное, но и внутри что-то с этими вчерашними завтра и завтрашними вчера наперекоски.
А то еще зайдет речь про Кызыл-Аскер, пригород, мы туда за спидометрами для великов ездим, когда прежние ломаются, так надуется.
- Угу, - бубнит, - как же! Вы в Кызыл-Андрея ездили или в Кызыл-Алешу.
И сколько ему, чертеняге, карту географическую ни показывай, что в лоб, что по лбу - все равно одно гнет.
5Саня Мельников - свой парень. Слегка манерный, опрятненький, со старшими вежливый. Это его дед приучил. Он у него добрый, но порой строговат. Нога у него своя всего одна, другая отстегивается. Приветит, бывало, поговорит, а потом как вспомнит вдруг чего, раздражится, осерчает. Бывать у них в гостях тягостно, не по себе.
Бабушка Санина на кухню пригласит, угостит чем-нибудь, гриба нальет. Женщина дородная, в складочках, а как муж только взглянет по-иному, потускнеет враз, вся съежится, будто в размерах меньше станет. А пришлому так вообще хоть сквозь пол провалиться, не до игр. Саня особенно поэтому и не приглашал. Сам понимал, что к чему.
А на улице словно разрядки ищет, компанейский. Конечно, сразу в пыль в своих отутюженных брючках не бросается и взрослым напропалую не дерзит, но и не пай-мальчик. Да он и дома не то чтобы по струнке ходит. Любит своих деда с бабушкой, как и они его. Да и как иначе? Внук единственный, а бывает все реже.
Родители Сани выплачивают за кооператив неподалеку от Ортосайского рынка, и по мере обустройства он, Саня, все меньше времени проводит с нами. Его отец с матерью переехали уже давненько, но пока ремонт, то-сё, оставили сына на старом месте. Добираться на учебу Сане стало, правда, тяжело, почти пятнадцать остановок на транспорте (в школу-то другую уже перевели). Зато не обрубили ему все связи разом. Чай, не несмышленыш ведь, чтобы где придется - там и ладно. Попробуй перестройся вмиг на новое, если прожил во дворе на Московской всю свою сознательную жизнь.
6Уш Ганкин и Нихёль Меньщиков по школе опережают на три года. На самом деле их зовут Андреем и Лехой, но к ним уже пристали прозвища - старшие так окрестили. Нас они за это шпыняют слегонца, а тем сказать ничего не могут. Говорят, конечно, но что толку? А мы лишний раз и не бередим, не дразним: "Ушу замуж невтерпеж" и "Нихёль никелированный". Уши у Андрея действительно топорщатся, торчат в разные стороны, отогнул будто кто нарочно. А вот насчет Меньщикова непонятно. Почему никелированный? Может, из-за того, что гантелями занимается? Хотя вряд ли. Черт его знает. Непонятно.
Учатся они в разных школах. Леха в нашей, в двадцать восьмой, а Андрей в тринадцатой, английской. Там у них на этот иностранный язык со второго класса не то какой-то уклон идет, не то крен. Придет как-нибудь с занятий и говорит: "Ю брэйкин май хат". Особенно если какая девчонка рядом. Чего-то про хату, значит. А по-ихнему это: "Ты разбила мое сердце", кажется. А не про квартиру. Вот и выучи его, английский этот.
Только несладко Андрею приходится. На первом этаже в моем подъезде (я-то на втором) Кадниковы живут. Так Кадниковская жена, Маргарита Васильевна, директриса той самой тринадцатой школы. А чуть во дворе бузу устроим, та шмыг на улицу и на вид поставит, галочку в уме. Андрею потом откликается.
Брат у него старший тоже эту школу заканчивал, чуть ли не с золотой медалью. Ему Пашку в пример вечно ставят. Да только что с ним теперь? Говорят, дрянь какую-то глотает, в больнице необычной лежал. А из дома после ссор с бабушкой, Генриеттой Исааковной, через окно второго этажа по трубам вылезает, сам видел. Отец его с их матерью, тетей Галей, в разводе. Но им все равно помогает. Старшего сына к своему делу пристроить пытается. Чем он занимается, во дворе наверняка не знают, бизнесом каким-то. А что за бизнес, никто и объяснить не может. Работа, говорят, такая. Ну раз работа, так и скажите - работа. А то - бизнес. Но что-то, видимо, прибыльное: на машине он заграничной ездит.
Старики иной раз вокруг автомобиля соберутся и гадают: что за марка? Поломают головы, поломают и стоят ни с чем дальше.
- А еще есть французское авто. "Пежо" называется, - вспомнит Сазонов.
Сам он в машинах дока, собирает по частям "Победу".
- Во-во, "пижон" и есть, - согласятся остальные, охотно затрясут головами.
Нет чтобы спросить.
Но отец Андрея нас мало занимает. Все равно никогда покататься не возьмет. Куда интереснее слушать о похождениях Ампилуги на Трех Ботаниках. У Мишки Ампилова родители пьют, его колотят. Со школой у него дело темное, не больше классов шести. И сам уж от безысходности закладывает, припадки случаются на нервной почве. Компания у него своя, шебутная. Куролесит по городу, ввязывается в истории. Нигде не работает, а деньги есть.
Кладовки у нас как-то в подвале вскрыли, ну, все на него и подумали. Только не доказали ничего. Милиция приезжала, они-то его не первый день знают, расспрашивали что-то. Так ничем и не закончилось. А Мишка возьми потом и полунамеком обмолвись, что не все так уж и чисто. Не знаю, кто уж и кому донес, только через пару дней Ампилугу в пять утра всего в крови дворники нашли. Оклемался. Головой об стенку его отхайдокали, а кто - не говорит.
- Хулиганы, наверное, - ответил.
- А сам-то ты кто? - спросил участковый.
И милиция опять уехала ни с чем.
7Три Олега приезжают в наш двор только летом.У Олега Бутенко родители на заработках, где-то на Севере. Смирнов и Ануфриев, почти как артист, из Москвы. И у всех здесь бабушки, старики. Мы удивляемся, почему они живут порознь, но с расспросами не рвемся, дело чужое.
Артист сильно заикается, иногда и слова одного не дождешься. Родители его в Москве на курсы водят, чтобы разговаривал лучше. Да что-то все без результата. Бутенко держится особняком. В каждый приезд говорит, что на следующий год всей семьей переедут обратно. И так повторяется от лета к лету. Смирнов занимается легкой атлетикой: быстро бегает и крутит обруч, как девчонка. У него еще жива прабабушка, которой 106 лет. Кажется, все время она проводит на балконе. Сидит себе под козырьком верхнего этажа и дышит свежим воздухом. Это она так гуляет. Во дворе-то ее уже годов двадцать не видели.
Личность Олеговская прабабка загадочная, древняя. К тому же ее вблизи никто из нас не видел. Задерешь голову, крикнешь: "Здравствуйте!" А она - молчок. Только силуэт, облокотившийся на палочку, сквозь кроны деревьев проглядывает. Не слышит то ли нас, то ли своими думами занята. Гуляет, мыслит.
- Так это она еще Ленина видела, - задумываемся мы иногда.
- Видеть не видела, но могла, - авторитетно заявляет правнук.
- И войну гражданскую с Чапаевым застала, - продолжаем восхищаться мы, высчитывая года.
- И в прошлом веке жила!
- С царем!
Все это произносится почти с благоговением. А то, что Олегова прабабушка не видела Ленина или Чапаева, нас не огорчает. Могла ведь!
Угасла долгожительница тихо, незаметно, в одну из весен. Просто кто-то сказал, что бабушки на своем привычном месте нет, а некоторые вспомнили, что балкон пустовал и на той неделе. Хотя как мы могли пропустить похороны, никто из нас объяснить так и не смог.
8Хоронят у нас исправно, проводы на каждый сезон приходятся. Катафалк, венки, оркестр.Двор большой, людей живет много, одиноких почти нет. Пенсионеры - почти в каждой квартире. Если вечерком все соберутся, на трех рядах скамеек у левой беседки не умещаются. А табуреты не вынесут - обязательно кто-нибудь стоит. Спорят, обсуждают, переругиваются. Бабки в сторонке, старики дымят, газетные новости перемалывают.
По этой части Глеб Парамоныч - признанная голова. Он статьи в "Вечерний Фрунзе" пишет. За глаза его зовут "Двенадцать Месяцев". Каждый месяц он подписывается по разному: Глеб Январев, Глеб Мартов, Глеб Августов. Какой месяц - такой и псевдоним, а своим именем - никогда.
- Чего пишешь, если от фамилии своей открещиваешься? - пытают. - Или все - брехня?
Такие дознания - обычное дело. Но это так, для словца. На самом деле Глеб Парамоныч - личность уважаемая, и тем, что он живет в нашем дворе, многие гордятся. Стихи своих детей, а то и внуков показывают. Глеб Парамоныч отнекивается:
- Я в лирике не совсем. Журналистика - аспект иного порядка.
Но тетрадки берет и потом все большей частью хвалит. Только в газете не печатает. Говорит, профиль не тот, и советует отослать, смотря по возрасту, в "Костер" или в "Веселые картинки", если автору от горшка - два вершка.
- Чего, Парамоша, в мире делается?
И начинается.
Но иногда ходит Глеб Парамоныч мрачнее тучи. Это когда в одном из наших домов ломается что-то, а меры не принимают. И не откажешь общественности, и возиться неохота. Отец Димки Дроздова говорит, что так ему удобнее. Писать о впечатлениях с выставок (Глеб Парамоныч в отделе культуры заправляет) куда проще. Я в этом деле ничего не понимаю, но почти в каждой статье одинаковый набор: "Я вошел, и мне открылось", "Сердце зрителя екнуло и замерло", "Живописцу удалось" и "Всем нам несказанно повезло, что..."
9Дядя Коля - шахматист пожалуй, единственный, кто не интересуется персоной Глеба Парамоныча. Знай, режется все вечера напролет в шахматы, партий по пять-шесть, не отходя от кассы. Сидит будто вместе со всеми, а чуть в сторонке. Если надо, вклинится в разговор, а так - нет его. Только и слышишь: "Е два - Е четыре", и кланк по кнопке часов, как заправский профессионал.Кругом лавки топчутся, советуют. Дядя Коля этого не любит. Если и соглашается на подсказки, то разве что противнику. И без того часто выигрывает. Стучит своим срезанным наполовину фрезерным станком указательным пальцем и торопит с ходом. Оглянуться не успеешь, как у тебя одни пешки, три с половиной калеки, и королю - мат.
- Да, умеешь ты, Коля, материться, - это коронная фраза Эдика. - Я же говорил тебе, - обращается он уже к проигравшему, - лошадью ходи, Каспаров!
Эдик - с первого этажа, тоже из моего подъезда. Его квартира напротив директрисиной. Тип он еще тот. И не старый еще, а брюзга-а! Его, наверное, все недолюбливают. Даже жена, вечно у них ор раздается. Но старики его терпят, только от разговоров коробятся. Крепок на язык Эдик. Ляпнет какую-нибудь пошлость и гогочет над ней, будто не спохабил, а номер отколол, как Олег Попов. И матерится, спотыкаясь на втором-третьем нормальном слове подчас такое загнет, что и не поймешь, в чей адрес клонит. Мы его иногда специально приходим послушать. Но глаза стараемся не мозолить, у нас с ним давние контры.
10Вечером слушаем Уша.К ним в класс должны перевести настоящего негра. На третьем уроке его привозили знакомиться, да так и оставили на весь день. Отец у него, как в фильмах, какой-то важный засланный посол. Только почему-то не из Африки, а из Америки.
- И как же он с вами говорит? - спрашивает Леха.
- По-русски, - отвечает Андрей и, видя наше недоумение, добавляет: - Но плохо. Очень плохо.
Потом выясняется, что вообще-то этот самый Патрик (Патриком его звать) к нам не совсем из Америки перебрался, а из Таганрога.
- А что он в Таганроге-то делал? - выпучивает косоватые глаза Эльдар.
- Отец у него там работал до перевода, - как бы оправдывается Андрей, чувствуя, что эффект уже безвозвратно смазан. - Да и фамилия у него дурацкая - Хилпатрик.
Интерес к Патрику-Хилпатрику немного увядает.
- А чего его именно в вашу школу отправили? - опять спрашивает Леха. - Наша двадцать восьмая лучше.
Все-таки негр - один, а в тринадцатой из всего двора учится только Ганкин.
- Так специализированная же, - с гордостью отвечает Андрей. - С уклоном.
- И какой же его язык иностранный у вас изучать заставят? - загоняет его в тупик Макс.
- Как какой? - теряется Уш. - Английский. Какой уклон, такой и язык, наверное.
- Да что он, английского языка не знает, что ли? - удивляется Стас.
Все смотрят на Андрея. Его негр, ему и отдуваться. Ждем, что скажет.
- Вспомнил! - после замешательства чуть не вскрикивает Уш. - Он говорил, что в школе изучал французский.
Мы понимаем, что подозрения Стаса напрасны. Но Стас не отступает.
- Ну да, - невозмутимо продолжает он. - Конечно, французский, немецкий или итальянский. Английский-то у него - родной.
Мнения разделяются. Мы считаем, что английский - родной у англичан, а не у негров.
- Скорее всего его заставят лучше учить русский, - гнет свою линию Стас.
- Отдельной группы русского языка нет ни в одной школе, - назидательно заявляет Димка. - Он у нас и так для всех родной.
Когда Димка чувствует, что прав, всегда говорит уверенно, твердо.
- У нас - да, - начинает уже раздражаться Стас. - А для него русский - иностранный.
- Вот бы мне потом иностранным сделали русский, - мечтательно влезает Аскерушка. - Русский-то я хорошо знаю.
До четвертого класса ему далеко. Это он наперед меркует.
- Нет, русский и так для всех, - все еще не сдается Андрей. - И иностранный тоже для всех, о-бя-за-тель-но!
- Вот не повезло парню, - говорю я. - Нет чтобы ему там вместо французского сразу английский учить. Так еще здесь с английским мучиться придется, потому что у вас никакого другого нет. Это ж шарики за ролики заскочить могут.
Все молчим. Мысль о том, что английским он, может, с детства владеет в совершенстве, напрочь теряется под градом догадок и предположений. Патрик он хоть и негр, но надоел уже всем окончательно. И без того в его судьбе сколько участия приняли.
- Короче, завтра чтобы все разузнал, - наказывают Ушу старшие, наконец-то прекращая этот сыр-бор.
Одному только Аскеру по-прежнему интересно:
- Русский язык и вдруг - иностранный! Чудно!
Больше таинственный негр в тринадцатой школе не появлялся.
11С утра летим в комиссионку, приемщик приглашал. У него во дворе отдельная конторка. Чего там только нет - сокровищница. Достает где-то всякие вещицы и продает втихую. Нас-то уже знает, примелькались. Вот и предлагает время от времени что-нибудь. Выбор у него королевский. Гурьбой втискиваемся в полузатемненное помещение и ждем, когда он достанет из стола ящички. Всячина всякая, но из-за денег чаще всего напоказ выставляются разные брелки: складной ножичек под матрешку, чертик со светящимися в темноте стекляшками-глазами, Кинг-Конг с вываливающимся языком. Иногда бывают маски, очки с носами, вставные челюсти, значки-цеплялки с Джексоном и "Бе беатлес".Предел мечтаний, конечно, деревянный бочонок с краником, для пива. Но он восемь рублей стоит. Каждый раз просим его показать и не продавать, оставить. А чтобы совсем на нас не обижался, покупаем у Магаза (это сокращенно от "магазина") что-нибудь грошовое. Больше всего из брелков нравится девушка в тюрбане. Сама на зеркальном матовом фоне, с цепочкой на шею, в футляре. Какая-то Нефертити. Аскер пугается. Откладывает ее осторожно в сторонку. Думает, ему сказали: "Не вертите". Стоит она аж тридцать копеек, два школьных завтрака. Но после торга сбавляем по две-три копейки.
- Только никому не рассказывайте, где брали, - с ноткой просьбы наставляет Магаз, запирая свою кладовую и как бы невзначай оглядываясь на служебный вход в комиссионку. - А бочонок я, так и быть, пока приберегу.
- Прямо для нас он его и оставляет, - говорит потом Нихёль. - Заломил цену, вот и не берет никто.
Точно одно. Из-за того, что мы не выдаем Магаза, он и сбавляет нам иногда цену.
С этим соглашаются все.
И Нефертити в чурбане, как прозвал ее головной убор Аскер, царственно кивает на своей цепочке в такт нашим догадкам.
12Напротив наших окон - котлован. После долгого затишья, ближе к полудню, он внезапно начинает оживать. Стягиваются грузовики, кивают краны, суетятся рабочие. Будут закладывать фундамент. Пустой дырой котлован зияет уже несколько лет. Раньше на его месте теснились кварталы частного сектора: маленькие домики с палисадниками, выкрашенный штакетник и в каждом - калиточка.Мне кажется, все это я помню. Но утверждать наверняка не берусь. От неразобранных остовов домов, что сбились по краям котлована, давно остались руины; хоть чем-то полезный хлам растащен. О фруктовых садах напоминают лишь два тутовых дерева, которые еще называют шелковником. На одном ягоды белые, крупные, продолговатые, за ними нужно лезть на самую верхушку. Второе дает плоды иссиня-бордовые, с переливами. Чуть надавишь языком, как они лопаются, превращаются в сладкую кашицу, обволакивающую рот.
Прибывший экскаватор немилосердно рубит тутовые стволы ковшом, злобно урча, натиском, гнет их к земле, кромсая без всякой анестезии, по живому. Какое-то время шелковники держатся, противостоят напору, но потом уступают механизированной груде железа, расчетам СМУ и координатам планируемого объекта. Надрывно трещат, туго выгибая свои молодые стволы под ковшом, кракают и безысходно сдаются, отваливаясь рассеченными открытыми переломами.
Нас душит злоба и ярость. Самые отчаянные швыряют в экскаватор комья земли. Но ничего изменить нельзя. А ведь тутовник рос на нашей стороне арыка и поэтому был нашим. Экскаваторщик вылезает из кабины и, весело смеясь, начинает обрывать ягоды, отправляя их горстями в рот. Этого мы стерпеть не можем. Когда его отвлекает чей-то окрик, подхватываем сбитые ветви и утаскиваем их за мой дом, в глубь нашего двора. Сидим на бассейне и аккуратно, чтобы не растерять, обираем оставшиеся ягоды. Деревья жалко. Уж очень они строительству этого киргизского дома помешали.
* * *
Работы ведут споро. Глеб Майский узнает, что на каком-то высоком уровне принято решение заселить дом разными киргизскими учеными, директорами и светилами. Район престижный, место удобное. Поэтому со строительством уже торопятся, забыв о простоях. Раньше в этот дом обещали прописать частников из снесенных кварталов. Но их уже и так куда-то расселили, растолкали по разным районам.
Чувство справедливости подмывает Майского, как человека порядочного, написать о неравноправии: мол, обещали - и кукиш, как для простых людей - так котлован, а как для академиков - на тебе и фундамент, и технику, и материалы, не говоря уже про сжатые сроки и внезапно взятые повышенные обязательства. Об этом Майский горячо говорит по вечерам собравшимся на лавочках пенсионерам. Правильно говорить он умеет, аж за душу берет. Неправду ему по долгу службы, в свободное от хождения по выставкам время, предлагают обличать от двух до трех раз в неделю, в зависимости от того, есть ли место в "подвале" первой полосы. Но строительство академического дома - дело важное, лезть поперек со своими измышлениями - может стоить дорого.
Майский понимает это не сразу. Первые дни он красуется в лучах внимания, и остальное его заботит мало.
- Безумству храбрых поем мы песню, - подбадривает, гогоча, Эдик.
Но вместо того чтобы лишний раз утвердиться в своей правоте, Глеб Парамоныч начинает соображать, что к чему. Пыл как рукой снимает, голос становится все тише, появляются интонации увещевания. В конце концов, рано или поздно дом все равно бы построили и заселили. Чего ж возмущаться? Обличительные речи постепенно стихают, сходят на нет. Авторитет Глеба Парамоныча падает. Академический дом растет буквально на дрожжах. Повздыхав, все молча смиряются с его строительством как с данностью ландшафта.
13В понедельник погибает Вадик Мамырин. Глупо, нелепо, у себя дома, в окружении двух одноклассников. С последних уроков их отпускают: учитель труда заболел, и труд отменили. Свободного времени - вагон, расходиться не хочется. Вадя предлагает пойти к нему поиграть - родители на работе, да они и так не против. Вадя, сколько мы его помним, мечтает о братике, просто бредит им. Но брат все никак не появляется. Поэтому родители стараются переключить внимание сына на друзей, школьных товарищей. Двери их дома всегда открыты для гостей Вадика.Подробности случившейся трагедии становятся известны только через пару дней. Сначала, как это бывает, каждый или выдвигает свою версию, или пересказывает с пятого на десятое услышанное: ударился головой об косяк, отравился газом, напоролся на нож. Все это страшно и жестоко. Не стало восьмилетнего мальчика, единственного ребенка в семье, а перекати-поле сплетен растет, вертится, обволакивается новыми обстоятельствами, одно неправдоподобнее другого.
Выясняется, что Вадя заткнул пробкой раковину на кухне, чтобы наполнить ее водой и запустить туда бумажные кораблики. В ванную не пробраться - ремонт. Вода перелилась через край мойки, затекла под холодильник. И когда хозяйственный Вадя полез под него с тряпкой, его шарахнуло током. На глазах у ребят из 3 "А".
Но это мы узнаем потом.
А сперва весь двор взбаламучен, взбудоражен. Кто был дома - высыпали на улицу. И в толпе только:
- Мамырин-Мамырин, Мамырин-Мамырин.
Непонятно, боязно, муторно.
Первой с работы летит тетя Люда, мать Вади. Ей позвонили и сказали. Эдик закрывает обе створки подъездной двери, загораживает их, распростав руки:
- Не пущу, милая, не пущу. Горе с нашим сыночком! - кричит он. - Горе с нашим Вадиком.
Тетя Люда бьется, воет, ноги ее подкашиваются, не держат. Ее подхватывают, обвивают, чтобы не пустить к подъезду. Мы не понимаем, почему. Спрашиваем кого-то. В нас вцепляются чьи-то руки, пытаются увести в сторону. Тетя Люда падает, бежит отец Вади, кричит, протискивается в подъезд. Мы ничего не можем понять. Олегова прабабушка тоже умерла, но ведь ей было сто шесть лет, а не восемь.
- Как же он умер? - говорю я. - Ведь вчера мы с ним играли в пробки.
- Мы его тоже видели вчера вечером, - заявляют притихшие Борька и Андрей-Колобок.
Им кажется, что это очень важно. Что их вчерашняя встреча еще может что-либо изменить.
Через полгода у Мамыриных рождается Димочка, младший брат Вади, о котором он мечтал всю свою жизнь. Вадику заранее не говорили, хотели сделать подарок.
Эдик почему-то называет теперь своим сыном и Диму. Очень гордится им, покупает всякие безделушки, каждый день бегает, интересуется. Мы удивляемся его заботе и уже готовы заключить с Эдиком перемирие.
Тетя Люда иногда останавливает нас во дворе и угощает печеньем, конфетами. А если мы просим, заводит в дом и показывает большую фотографию Вадика в траурной рамке, с черной ленточкой на боку. Но мы и так помним Вадю. Тетя Люда знает, и ей это, мы думаем, приятно, хотя она и плачет целыми днями.
14Колобок и Борис ровесники, на три года младше меня. У Колобка щеки сытые, круглые. Его так потому и прозвали. Бабушка откроет окно первого этажа и кричит на весь двор:- Андрю-юша-а, Андрю-юша-а.
А стоит Андрюшечке подбежать, ему - раз! - в рот булочку, в руки - два! - кулек с выпечкой про запас.
- Иди, Андрюша, играй с ребятами. Только поешь хорошенько и смотри, после еды на полный желудок не бегай.
Вот тебе и игра.
Вечно пичкают чем-нибудь, рот у Колобка не закрывается. А его бабушка во дворе жалуется:
- Не ест у меня парень ничего. Или первое, или второе. А если уговоришь все съесть, так добавки, чтоб подложить, не допросишься.
Борис маленький, стройный. В Колобка два таких влезет. Но в обморок не падает. Крепкий, поджарый. Купят ему рогаликов-присыпок по семь копеек, он пудру слижет и макает коркой с мякишем в холодный сладкий чай. А пойдешь с ним деревья обносить, так сорвет урючину и смотрит на нее долго, вертит в руках и, прежде чем в рот отправить, обязательно меня спросит:
- А как ее едят?
А потом еще побежит мыть на колонку.
Я сначала объяснял, но раз от раза все повторяется.
- Вот так, - говорю я ему и проглатываю урюк. - Вот так его едят и, поверь мне, Борис, никак иначе.
Смехота. Как едят! Нам такое и в голову не придет спросить. Слоп - и готово. Один раз решил без расспросов обойтись. Запихнул в рот горсть барбариса. А тот жесткий, кисловатый, костистый. Борька переплевался весь. Так к нему и приклеилось: Борис-барбарис. И не обидно вовсе. Это вот Колобок на свое прозвище обижается, дует щеки, отчего только еще больше походит на Колобка. Но звать его "Андрей-воробей, не гоняй голубей" длинно. Попробуй каждый раз выговори!
15Борис хоть и младше, а тоже с девочкой дружит, со Светкой Манштейн из углового подъезда. У Светы на голове всегда яркий бант, и ходит она на художественную гимнастику. Только нос длинный, а так - ничего. Прыгает по двору с лентами, машет ими во все стороны, до ряби в глазах, тренируется. Смотреть интересно, но жаль - надоедает быстро. Да и ей с лентами скучно. Девчонок во дворе мало, не то что пацанов. Кроме Светы, Жанны и Мариам, только Алла Маслова, Аня и сопливая сорванец Нузгуль.Есть еще Лариса. Но с ней особо не наиграешься. Лариса - глухонемая. Что-то по-своему, конечно, говорит, но что - понять трудно, и мы не понимаем. Да и вредная, хоть ее и жалко. Попросит, чтобы с ней в альчики кон разбили, а когда продует, схватит все костяшки и наутек. Или в прятки, когда играем, назло пальцем тычет - подсказывает. А чуть погрози ей, так бежит своим родителям жаловаться.
- Бы-мы! - и кулаком в нашу сторону.
А ей и верят. Придут, отчитают по первое число. Лариска сама стоит, скалится беззвучно и язык показывает, а в каждом кулаке еще по две фиги сжаты. Вредная девчонка, прямо как царица полей, или как ее там, из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".
А то вообще придумала без спроса брать наши велики из подъездов. Мы, если домой на минутку забегаем, бутерброд сделать или просто показаться, их внизу оставляем, чтобы по лестницам лишний раз не таскать. А она заметит и - шмыг. Тебя чуть кондрашка, когда спускаешься, а лайбы нет, не хватит. А Лариска в это время вокруг двора педали накручивает, смеется.
- Бы-мы.
Но родители ее и за это прощают. Одернут, правда, брови нахмурят, но Лариске все нипочем - опять фиги сложит. Знает, что сильно ругать ее не станут, а мы не в этот, так в следующий раз все равно виноватыми останемся.
Мы с Борисом думаем, что она из-за своей немоты и глухоты такая. Раньше она, мне рассказывали, нормальной была. До какой-то болезни. А потом - как отрезало. Но об этом стараются не вспоминать. Родителям сочувствуют и старое не бередят.
16Так получилось, что я почему-то знаю много тайн нашего двора. И про брата Уша, что в психушке лежал, и про Лариску, и про повесившегося Турабекова, и про то, что у одного из старших ребят родители неродные: своих детей у них не было, вот и взяли в детдоме. Да и о других вещах, которые обычно принято замалчивать.Кто рассказал мне это? Я даже не пытаюсь восстановить в памяти. Но если что-то происходит, рано или поздно мне становится известно об этом. Почему именно мне, я не могу объяснить до сих пор. Самое удивительное, что меня никогда не подмывало выдать эти тайны, даже в моменты откровений или ссор. Ответственность перед тем, что я это знаю, всегда так довлела надо мной, что мне и в мыслях не представлялось возможным рассказать своей компании хотя бы часть из того, во что я был посвящен. Может быть, именно поэтому я всегда пробовал забыть об этих секретах, сделать вид, что их просто нет.
17- Ваши отношения с Жанной зашли слишком далеко.Так сказал мне насмотревшийся индийских фильмов Димка.
А поскольку в ДК на сеансы мы бегали всей гурьбой, я отнесся к его словам с той долей серьезности, на какую только был способен.
- Я женюсь на ней, - без обиняков и размусоливаний сказал я.
И несомненно, поступил как честный молодой человек.
Свадьба, пусть даже понарошку, была для нашего двора событием, она затмевала все: и "Казаков-разбойников", и "цепи-цепи, раскуйте нас", и даже игру в "тэзики" в мослы.
С утра где-то были раздобыты настоящие кольца с красными камушками на ободках. Вокруг невесты хлопотали свидетельницы. Вместо фаты ее с головой покрывала какая-то драпировка. Алла Маслова, как заправская маникюрша, с сердитым видом аккуратно наносила на выглядывающие из-под свадебного балахона Жаннины ноготки бесцветный лак. В вопросах косметики Алла была девушкой искушенной еще с четвертого класса. Сейчас она училась в пятом.
- И не страшно тебе? - спрашивал вертящийся у меня под ногами Борька.
- Нет, - не совсем твердо отвечал я.
На ногах предательски пузырились спортивные штаны, но переодеваться в брюки не хотелось - мог запачкать, в шортах же все бы увидели мои сбитые, в ссадинах, коленки.
- А меня из-за Светки все дразнят, - пожаловался Борис. - Тили-тили тесто, жених да невеста.
- Это ничего, - сказал я. - Это так всех дразнят. Даже взрослых. Только им вместо этого, как в кино, кричат: "Горько!"
- А тебе теперь это тоже кричать будут?
- Не знаю. Вроде обещали.
На выпрошенных из дома перевернутых тазах готовили угощение: песочные куличи, белые гроздья акаций, стручки Адамова дерева. Все хлопотали, бегали туда-сюда, заранее поздравляли. В общем, не находили себе места. На настоящей свадьбе никто никогда не был и, как полагалось себя вести, не знал.
- А ты у мамы благословения спросил? - подскочил ко мне Димка.
Про благословение в фильмах ничего не показывали.
- Согласия, что ли? - уточнил я.
- Ну да.
- Нет.
И мы помчались, благо Димка был на мотоцикле. Он несся впереди меня на полметра и чуть сбоку и, крутя в воздухе воображаемую ручку газа, тарахтел: "Трынь-та-ды-дынь". В течение свадьбы он подавал еще "Волгу", "Чайку" и "ЗИМ", но чем отличались эти воображаемые автомобили от мотоцикла я уже сказать не могу.
Помню, как мы заскочили прямо на его тарахтелке на наш второй этаж, я позвонил в дверь и, влетев в прихожую, бухнулся у трюмо перед вышедшей с кухни мамой на колени. Сбито, спутанно объяснил, что у меня с Жанной свадьба. Мама что-то готовила, была в переднике, но тут же поняла всю важность события и, смеясь, дала согласие.
- Он у вас замуж выходит, - авторитетно подтвердил Димка.
- Не замуж выходит, а женится, - поправила мама. - Грамотеи.
Мы скатились вниз по лестнице.
- А где жить будете, молодые? - выглянув на площадку, крикнула мне мама.
- Потом, - объяснив, выскочил я из подъезда.
Надо было торопиться, приглашенные уже ждали.
Предпраздничная суета почему-то запомнилась лучше. Да она больше всем и понравилась. Я неловко торкнулся три раза в Жаннины щеки. "По-русски", как научила Алла. Все дружно проорали: "Жених и невеста, тили-тили-тесто!" А Борис подошел ко мне и сказал, что тоже женится на Свете, только потом. Остальное я помню смутно. Уже к обеду я лежал дома с отравлением.
- Так ты что, по-настоящему стручки Адамова дерева ел? - озабоченно спрашивала меня мама.
- Угу, - угрюмо мычал я в ответ.
- Так у тебя на него аллергия, ты же знаешь!
- Знаю, - также безропотно соглашался я. - Но, понимаешь, так получилось.
18Если шрамы украшают мужчину, то по рыцарским канонам равных мне еще поискать. От носа к губе кот разорвал. Пришел как-то с улицы грязный, а воды боится. Вот и выказал свое "фэ", когда я его вымыть пытался. Средний и указательный пальцы на правой руке тоже с отметинами - это я так осторожно шест ножиком строгал. Подбородок чуть сбит, если проведешь пальцем. И на лбу под прядью волос рубчик от треугольного камня - как-то голова в арык перевесила, когда я в нем головастика увидел; откуда он там только взялся? Тюк - и напоролся, камешек прямо как по маслу в лоб вошел. Сам я это смутно помню, под стол еще ходил, но края ранки заметны. А прокол в бедре и бледная "пуговица" на боку - уже от врачей, их работа.Мы расселись на яблонях и перечисляем свои боевые отметины. Когда я заканчиваю, наступает очередь Бориса. Подсохшая корка на съеженном локте не считается, он понимает. Но ничем другим похвастаться пока не может. Чтобы совсем не остаться в стороне, Борис рассказывает:
- Один раз я косточку из вишневого компота в нос засунул, и он перестал дышать. Меня к врачу возили. А бабушка при входе, которая куртки принимала, сказала, что теперь нос резать надо.
Мы перевариваем услышанное. Представляем, что было бы, если бы Борьке разрезали нос.
- Врач ее потом щипцами выковырял. Сказал, чтобы я больше так компот не ел.
- Тебе надо было сначала хорошенько разузнать, как его едят, - смеется Димка.
- Я потом тоже так подумал, - бесхитростно соглашается Борис.
О его привычке спрашивать знают многие.
- Носы из-за вишневых косточек не отрезают, - со знанием дела заявляет Нихёль.
Его мама работает врачом в МВД.
- А из-за каких отрезают? - с серьезным видом спрашивает Аскер.
- Только из-за ананасовых, - также на полном серьёзе отвечает ему Уш. - Пообещай мне, Аскерушка, что никогда не станешь есть ананасов.
Аскер испуганно обещает. Но это лишнее. Ананасы мы видели только на картинках. Иногда этот деликатес появляется на праздничных столах в консервных банках. Но в них какие-то другие ананасы. Всем хочется попробовать настоящие, нарисованные.
19У меня все не как у людей. Это мне говорят не то чтобы часто. Но, видимо, доля правды все-таки есть. В ясли я не ходил, в детский сад, по состоянию здоровья, тоже. Почти все, кого ни спросишь, когда были маленькими, туда ходили, а я нет. Часто болею, хандрю, мучаюсь с крупами - это когда и температура под сорок и у кровати тазик, потому что можно не добежать. Вместе со мной, похоже, даже больше, чем я, переживают и мучаются мама с бабушкой.Бабушка вышла на пенсию, чтобы за мной было кому постоянно присматривать. Она могла оставить работу и раньше, но не делала этого, пока не выяснилось, что я такой безыммунитетный, как говорит наш участковый врач, Людмила Васильевна Чугина. Дома у нас она бывает часто и всю мою толстенную карточку знает уже наизусть. Ее называют моим семейным доктором, и если у Людмилы Васильевны есть свободная минутка, ее приглашают на кухню пить чай.
Болезни - болезнями. Все понимают, что болеть плохо, разве что пропустить по справке контрольную, которой ужасно боишься, и несколько дней не ходить в школу. Хотя для этого вовсе не обязательно, чтобы саднило горло и был забит нос. Градусник немного греют на лампе, тридцати семи и трех вполне достаточно, а в ноздри засыпают щепотки высохшего клея. И токсикоманией здесь не пахнет. Предварительно клей выдавливается из тюбика на ладони, и когда засыхает, скатываешь его узорную корочку на бумагу. Конечно, дождаться заботливого "Будь здоров" можно и при помощи обычной спички, но тогда не краснеют глаза и не появляется одышка. К тому же спичку, которой щекочешь в носу, могут заметить, и тогда попадет по первое число. Сам полетишь в школу впереди собственного визга. Да и чихать, лишь когда родители выходят из комнаты - подозрительно. А так и сомнений никаких не возникнет. Смотришь честными глазами и только успеваешь издавать "апчхи" своим рассопатившимся носом.
Болеть я не люблю еще и потому, что у нас в семье уговор: раз не ходишь на занятия - сиди дома. Никаких вылазок, никаких "в гости", никаких "мам, ну я на пять минут". Болеешь - вот и болей, то есть выздоравливай. В принципе, это резонно. Но когда я вижу из окна, что Уш, который уже вторую неделю не ходит в школу, вовсю носится по двору, чувство несправедливости заполняет меня с головы до ног. Поэтому больным я притворяюсь лишь в крайних случаях: когда обещает нагрянуть проверка из гороно или перед тем, как у нас собираются взять срезы знаний, которые мы называем промывкой мозгов.
С другой стороны, мне многие завидуют. Понятно, не тому, что налагается домашний арест. Но если грозит какая-то эпидемия или наступает грипп, меня для профилактики начинают регулярно кормить пломбиром. Это вместо горьких микстур и всякой гадости. Вы не поверите, но это какой-то народный метод. Холод, как объясняют, закаливает горло, жир его смягчает, смазывает. Я в этом не очень-то разбираюсь, но мне нравится. Другие родители такого подхода не одобряют. Но простываю я по-настоящему, махрово и чтоб кашель надсадный, все равно гораздо реже прочих ребят.
Это, наверное, тоже называется "все не как у людей".
Из-за того, что я не ходил в ясли и сад, меня отдают в нулевой класс. За год я должен успеть научиться ладить со сверстниками и вести себя в коллективе. Так что в школу я иду с пяти лет. Ничего сложного в этом нет. Рядом со мной не крутятся парни из привычной компании, отчего поначалу я чувствую себя не в своей тарелке, но с тем, кто мне нравится, схожусь легко.
Наша учительница, одна по всем предметам, славная женщина, но то, что она рассказывает на уроках, неинтересно. Со мной постоянно занимались, поэтому и читать, и писать, и слагать я уже умею. За одни выходные я полностью исписываю всю толстую пропись, аккуратно выводя все замысловатые крючки и закорючки. Высунув язык, переписываю: "У Пети коса и у Маши коса. Коси коса!" - и в понедельник с чувством гордости сдаю свое годовое домашнее задание. Учительница этого почему-то не оценивает, за все ее годы преподавания с ней еще никто так не обращался. И она, наверное, просто не знает, как ей теперь поступить. Сердится и говорит моей маме, чтобы мне немедленно купили новую пропись. Получается, что за год я выполняю домашних заданий в два раза больше, чем все остальные.
Это, я сам догадываюсь, и называется "все не как у людей".
20Меня записывают в секцию большого тенниса. Сперва я брыкаюсь и с пеной у рта доказываю, что в гробу этот большой теннис вместе с секцией видел. Но постепенно втягиваюсь, хотя ездить на тренировки приходится за тридевять земель.Заправляет кортами супружеская пара. Андрей Валентинович и Валентина Андреевна. Он суровый и строгий. Она приветливая, пухленькая, но на удивление верткая. Диву даешься, когда видишь, с какой легкостью она порхает по корту, умудряясь доставать самые немыслимые мячи. Это при ее-то габаритах!
Однако если в секции что-то не так и дело доходит до выяснений, валентино-андреевскую приветливую щебетливость как рукой снимает. Голос становится сухим, лающим, движения стремительными, резкими. В подробности Валентина Андреевна не вдается, одинаково отчитывая всех, кто был замешан в провинности: порвал струны у ракетки, зафиндилил за забор мяч, курил втихаря у арыка. Требовательный же Андрей Валентинович в таких случаях, наоборот, становится своим. Может по-простецки присесть рядом с нами, поболтать, припомнить пару историй и даже пошутить. Но попасться под горячую руку ни той, ни другому все равно не сладко. Курево он тоже не жалует. Говорит, дыхалка будет ни к черту и таких продымленных легких на серьезную партию никогда не хватит. К инвентарю относится терпимее. Ракетки старые, пошарпанные, а мячи - они на то и мячи, чтобы иногда теряться.
Тренируемся мы ежедневно. Построение, проверка по журналу, вкратце о графике текущих занятий, разминка, наматывание кругов вокруг четырех асфальтовых кортов. Потом начинается основная часть. Кто поопытнее, приводят себя в форму у стенки. Чуть позже их разбивают на пары и отправляют в тренерский вагончик за сетками и креплениями. Предстоит играть партии.
Новичков на корт выпускают редко. Сперва следует научиться обращаться с мячом. Держать его на разных уровнях в воздухе по пятьдесят-сто ударов кряду. Играть с партнером в навес, чтобы мяч не касался земли. Причем стараться отбивать не только площадкой со струнами, но и ободком древка. Стенка - это самое главное, вот о чем твердят нам в два голоса тренеры. И если ты им не веришь, у тебя вряд ли что-нибудь получится. На эти секторы с кругами по центру уходят часы, дни, месяцы. Ты пружинишь на полусогнутых ногах перед блочным изваянием и остервенело всаживаешь в него удары: с отскока, с лёта, правой рукой, левой, перекрестно, в центр круга, одной рукой, но с разных сторон. Кажется, вариантам не будет предела. И тренеры подтверждают наши опасения, постоянно поручая все новые задания: увеличить метраж, бить по углам, играть понизу, брать с лёта посланные самим же подачи.
Я пропадаю у стенки с половины девятого утра до полудня. К стенке поставили, как шутим мы. Тренировка начинается с восьми, в школу - во вторую смену. За эти три с лишним часа успеваю отработать по несколько подходов всего, что задают. Осваиваю крученые удары, резаные, натягиваю воображаемую сетку - и вперед. Ужасно хочется выйти на корт, но сам откладываю этот момент, хотя возможность уже представлялась.
Видя, что я серьезно увлекся, мне покупают собственную ракетку. тяжелый деревянный "Союз" базовой модели "Москва". Лакировка так и играет на солнце, ладони приятно сжимают отделанную кожей рукоятку. Такой ракеткой только выигрывать. Валентина Андреевна включает меня в свой график. Теперь каждый раз она по пятнадцать минут играет со мной через сетку: в навес, по квадратам, на задней линии, по углам, на полосах, что отделяют коридоры. Играем без счета, но это к лучшему. Иначе бы я продул всухую. По мере освоения продвигаюсь дальше: вместе со всеми постигаю азы судейства, ведение счета, неразбериху с буллитами, где отмечаются уже не очки, а "больше" и "меньше" на стороне подающего. Первые геймы, первые сеты, первые партии. И даже соревнования. С наступлением школьных каникул тренировки увеличиваются. На погоню за мячом уходит уже по пять-шесть часов в день.
Вместе со мной на кортах занимается Андрей Ганкин. В секции он появляется как-то сам по себе, хотя и знает, что я уже давно тренируюсь у Васнецовых. Он часто пропускает занятия, что ставится ему на вид. Отработка у стенки его не устраивает, он рвется на площадку. Благодаря физической силе ему удается обыгрывать даже тех, кто занимается дольше него. Но техника со временем берет вверх. Андрей злится, выходит из себя, швыряется ракеткой, за что ему неустанно делают замечания, хотя ракетка у него и своя. А когда раздражается, становится еще более невнимательным, не успевает реагировать, подходит слишком близко к сетке, не доставая мячи, ударяющиеся у задней линии, запарывает подачи и мажет по вертикальным "свечам", пытаясь их "гасить" раньше времени. Но заниматься все же продолжает.
Потом Андрея переводят в школе в первую смену, и о его дальнейших успехах я узнаю от случая к случаю. Во дворе мы видимся так же часто, но как его ни послушаешь, он и того обыграл, и этому фору дал, и третьего в двух сетах разделал. Короче, Борис Беккер при встрече с Ганкиным рвал бы на себе от страха волосы.
Я пытаюсь уговорить Димку Дроздова тоже заняться теннисом. Но он говорит, что теннис ему не по душе. Леха Меньщиков начинает тренироваться, но вскоре бросает. Вот тягать гантели - это его. Борька увлечен плаванием. Три раза в неделю он ходит с родителями в крытый зимний бассейн на бульваре Молодой гвардии. Лягушатник не признает и никаких спасательных кругов тоже. Очки, маска, трубка и сорок минут по пятой дорожке. Только, говорит, башка от хлорки чешется. Уж очень он эти купальные шапочки не жалует. От них только волосы больно стягиваются.
21В городе открываются первые видеосалоны. Их можно перечесть по пальцам. Двенадцать Месяцев утверждает, что фильмы, которые демонстрируют в них, запрещены и крутят их как-то нелегально. Но салоны не закрывают, и на показы с удовольствием ходят, несмотря на критические газетные фельетоны. Единственное, с чем мы соглашаемся: рубрики "В кинозалах города" такой репертуар не печатают.
Каждый день бегаем к ближайшему салону. У подвала на Панфилова с утра вывешивают листок бумаги с названиями фильмов на вечер. Ужасы, мистика, боевик, карате/кунг-фу, для взрослых. И мелким шрифтом, ниже, кто в ролях: Б. Ли, Б. Лай (что нас особенно забавляет), Чук Хоррис, Джеймс Бонд, Джеки Иен. Все уверены, что Брюс Лай - сын Брюса Ли. Фамилии у них, конечно, разные, но кто же этих китайцев разберет. А Арнольд Шварц и Шварц Неггер - два актера. Внешности не запоминаются, имена тоже. Переводчики гнусавят и гундосят на все лады, и на титры мало кто обращает внимание. Важно, как кому двинули, которому врезали последнему и оклемался он или нет.
Только много позже, когда видео начинает проникать в дома, а в печати появляются статьи о фильмах и актерах, мы узнаем, что Джеки Иена не существует, а есть Джеки Чан. Брюс Лай вовсе не сын Брюса Ли, а вроде бы его ученик. Чука Хорриса зовут Чаком Норрисом. И кроме Арнольда Шварценеггера, никаких других Шварцев и Неггеров нет. Только его мама Шварценеггер и старший брат Шварценеггер. Но живут они в каком-то Граце и в кино не снимаются.
Билет на видео стоит целый рубль. Это большие деньги. На них можно раз шесть сходить во Дворец культуры. Там у Стаса мать билетершей, хотя и не пускает бесплатно. Да разве в ДК такое увидишь? В лучшем случае "Пиратов ХХ века" прокрутят, но куда им до "Битвы богомолов", "Тигра карате" и "Пьяного мастера"! Изображение размыто, звук хрипит, перевод отстает. Но зато этого ты больше нигде не получишь. А за рубль покупаешь возможность не только посмотреть, но еще во всех красках дважды, а то и трижды пересказать увиденное во дворе со своим исполнением трюков, от чего удовольствия почти не меньше. Тем более что ходить сразу всей компанией нам не удается - раздобыть плату за вход выгорает не каждому.
Первый видеофильм запомнился мне, наверное, на всю жизнь. Это "Лорд Дракон" с Чаном. Второй фильм, который приоткрывает мне завесу в мир видео, - "Греческая смоковница, или Ягодка созрела". Мы сидим с Борисом и Димкой в первом ряду на последнем девятичасовом сеансе в предвкушении добротного мордобоя - "Восемнадцать бронзовых бойцов". Но кассету не привозят, и хозяйка салона предлагает зрителям на выбор: "Рэмбо" или "Смоковницу". Какой-то тип, весь из себя фон-барон, авторитетно заявляет, что "Рэмбо" он уже видел. И нам ставят про налившуюся ягоду.
- Муть какая-нибудь, - предполагает Димка. - Садово-приусадебно-огородническая.
Индустрия видео еще - глухой угол, и действительно, кто знает, что могут показать?
К нам подходит владелица.
- А вы чего сидите, ребята? - хитро смотрит на нас она. - Марш отсюда.
- Так мы же заплатили, - удивляется Борис.
Но мы с Димкой смекаем, что к чему, и "включаем дурака".
- А что случилось, что такое? - наперебой бросаемся выяснять мы. - Деньги уже у вас, обещанный фильм отменили, еще и выгоняете!
- Да я вас не выгоняю, - неохотно идет на попятный тетка. - Но смоковница все-таки.
- Ну? - напираем мы в один голос.
По первым кадрам и открывшимся видам мы понимаем, что в своих догадках не ошиблись.
- Что ну, не знаете, что ли, что такое смоковница? - все еще старается дать понять, о чем толкует, блюстительница нравов.
- От слова "смаковать", - находится Димка. - Проверочное слово - смак.
- Так ну и что? - опять не удерживаюсь я.
- Ну-ну, баранки гну! - взвинчивается видеосалонщица. - Проверочное слово у них! Заладили. Я вам дам проверочное слово, мало не покажется! Вот сидите себе и смакуйте, и проверяйте, сколько влезет, - впрочем, уже сменяет гнев на милость она. - И еще, эта, помалкивайте. - Тетка с хитрецой подмигивает и отходит, теряя к нам интерес.
- Чегой-то она? - спрашивает Борис.
Его отпустили под нашу ответственность.
- Да ничего, так просто. Комедию ломала, - объясняет Димон.
- Конечно, кто бы нас вытурил? - успокаиваю Борьку я. - Что она, дура, три рубля терять?
Больше за весь фильм мы почти не произносим ни слова. И даже стараемся не моргать. Правда, один раз нас отвлекает Борька. В одном из рядов он замечает Двенадцать Месяцев.
- Смотри-ка, - говорит Димка. - Глазки так и светятся.
- Ага, - соглашаюсь я. - Даже очки в темноте блестят.
- Надо будет поздороваться.
После просмотра я выхожу на улицу с глубокой уверенностью, что "детям до 16" не показывают только некоторые фильмы. А видеофильмы еще и в двадцать пять, наверное, запрещены.
У двери нос к носу сталкиваемся с Парамонычем и с ходу, как ни в чем не бывало, спрашиваем:
- Ну как вам фильм, понравился?
Да с таким участием, будто мы из консилиума эротокритиков и мнение коллеги - позарез.
Парамоныч ужасно конфузится. Увидеть нас здесь он явно не ожидал. Засек бы в зале, наверняка ушел бы заранее. А потом сделал вид, что ни сном ни духом.
- А вас, что же, так поздно отпускают? - после замешательства спрашивает он с блуждающим взглядом.
- Отпускают, как видите. Фильм-то понравился? - не отступаем мы.
Не начнет же он сейчас ругаться и грозить рассказать нашим родителям, что мы смотрим.
- Любопытно, кхе-хе, - не выдерживает напора Парамоныч. Но тут же спохватывается: - Однако это свинство какое-то! Взяли и фильм заменили. Люди же деньги за другое платили! Ведь правда?
- Ведь правда, - отстает от него Димка. - Это форменное натуральное свинство. Так всем про него и расскажем.
Двенадцать Месяцев теряется совсем. Видно, что ему хочется, как и видеосалонщице, подмигнуть нам и попросить не распространяться.
- Но нам пора, вы уж извините.
До дома всего остановка, и мы идем пешком.
- Фильм ему заменили! - смеется Борис. - А сам пялился, чуть очки не треснули.
На следующий день мы рассказываем во дворе про смоковницу. В то, что нас пустили, многие не верят.
- У нас даже если в трусах и в майке женщин показывают, так и то от ворот поворот, фиг протиснешься, - заявляет Нихёль. - "Новые амазонки" с вырезками крутят. А тут прям такое дело.
Но в то, что мы застукали Двенадцать Месяцев, верят безоговорочно и вдоволь потешаются над ним.
- В видеосалонах показывают нелегальные фильмы, - передразнивают на разные хоры. - А сам, старый развратник, туда же.
- Озабоченный!
Внезапная замена фильма никому не кажется достаточным оправданием для Парамоныча.
22Стряслась настоящая трагедия. Переезжает Димка Дроздов. Это немыслимо, не укладывается в голове. Всю жизнь мы прожили с ним бок о бок, и вдруг - на тебе. С Жанной мы уже, как говорят взрослые, в приятельских отношениях. Она чуть повзрослела и всего стесняется, как подменили. В нашей компании показывается редко, больше вертится со сверстницами. Да и я, видя, что все пошло наперекосяк, перегорел; симпатичные девчонки есть и в классе.А вот Димка! У его родителей дело давно идет к разводу. Дядя Женя иногда выпивает, тетя Света ругается. Но это тянется и все как-то виснет в воздухе, обрываясь совершенно неожиданно.
- Теперь дядя Женя им не отец? - спрашиваю я у мамы. - Он теперь отчим?
Оказывается, нет. Отчимом будет другой мужчина, за которого собирается выйти замуж тетя Света.
Мы гадаем во дворе, кому достанется Жанна, а кому Дмитрий. Но выясняется, что их не поделят. Оба останутся с матерью. Жанна толком ничего не понимает. Димка ходит злой, понурый. Но что-либо изменить уже нельзя. Остаться жить здесь они тоже не могут. Теперь Дроздовых две семьи, и им надо подавать на какой-то раздел имущества.
Баба Тоня относит в "Вечерку" объявление о размене трехкомнатной квартиры. В двухкомнатную переедет она сама с Петром Васильевичем и дядей Женей. Однокомнатная отойдет бывшей жене сына (хотя у нового мужа тети Светы и так есть своя) - останется Димке на вырост или Жанне на выданье. Продажа квартир еще запрещена, так что денег за нее не выручишь.
С Димкой мы проводим вместе гораздо больше времени, чем обычно. Кажется, никогда так, как теперь, не нуждались мы в общении друг с другом. Невольно вспоминается все, что было пережито. Со стороны это такие мелочи, но как важны они для нас!
- А ведь это твоя бабушка Дедом Морозом на Новый год переодевается, - решаю я выдать тайну.
Все равно такой Дед Мороз из четвертой квартиры больше никогда не постучится в нашу дверь своим волшебным посохом.
- Я ее по тапочкам раскусил.
- Да я знаю, - отвечает Димка. - После его появления у бабушки всегда щеки румяные, а на антресолях спрятана борода.
Это Антонину Васильевну так ее мать научила, Анна Семеновна. Сама, когда баба Тоня еще маленькой была, наряжалась в тулуп и рукавицы, ставила ее у елки на табуретку и слушала, что она Деду Морозу приготовила. Так что мы тоже для Деда Мороза стихи разучивали, хоть он и был свой: "В декабре, в декабре все деревья в серебре".
Анну Семеновну я помню. Она с моей прабабушкой дружила, Натальей Федоровной, ее за год до моего дня рождения не стало. Но по домашним рассказам мне кажется, что я помню и свою прабабушку. А Анну Семеновну - наверняка. Она выходила в нашу беседку и подолгу сидела в ней. А мне разрешала играть со своей резной клюкой, будто это лошадка. Умерла она в 87 лет, а моя прабабушка в 88. И этим я почему-то втайне гордился. Только не мог понять, как вышло, что Димкину прабабушку я застал, а свою - нет. А потом мне объяснили, что хоть они и были обе очень старенькими, на свет появились в разное время - Анна Семеновна на несколько лет позже. И этим я тоже гордился: моя прабабушка и родилась раньше, и прожила дольше.
Димка отдал мне все свои альчики. Только сочку, залитую свинцом, и самый большой курбан себе на память оставил. Альчиков у него немного, штук тридцать. Не то чтобы он играет хуже меня. Просто иногда возьмет и поставит на кон больше, чем следовало бы, когда у твоего противника бита двойная, да и без мазанья не обходится. Я не хочу их брать у него, еще пригодятся. Но он все-таки отдает. Говорит, что теперь все равно играть будет не с кем - никого в Аламедине не знает. И грозит, что иначе раскидает мослы на "драку-собаку". А сам злой-презлой. Но не из-за того, что отдал. Переезжать ему ужасно не хочется.
Аламедин - микрорайон, где они станут жить. Он находится так далеко, аж за ТЭЦ, что я в нем даже еще никогда не был. Но Димка говорит, что там он будет появляться редко. Лучше жить с бабушкой, дедом и отцом. Я думаю, что его не отпустят, но вслух не говорю. И пока квартира остается за ними, мы надеемся, что его бабушка переедет куда-нибудь недалеко. Но по закону подлости квартира достается в районе Ортосая. По дальности это тот же Аламедин, только в другую сторону. От теннисных кортов дотуда еще такое же расстояние, как от тренировки до моего дома.
При игре в альчики есть такое внегласное благородное правило. Если все видят, что сочка сорвалась с пальцев, можно быстро закричать "не пробито" и один раз перебить. Это как в теннисе, когда мяч при подаче задевает сетку. Но я все время путаю и вместо этого кричу "пробито". И Димка, хохоча, продолжает игру, хотя видит, что я обижаюсь, потому что опять ошибся. А тут он отдает мне всю коробочку из-под обуви со своими костяшками.
Когда приезжают два грузовика, мы помогаем носить вещи, таскаем стулья, подушки, ящики из шкафов, торшер. С этим торшером смешная история. Он достается Дроздовым от Борьки, точнее - от его родителей. Один раз Бориной бабушке на юбилей торжественно подарили одиннадцать одинаковых торшеров. Мама объясняет это тем, что раньше отыскать хороший подарок было сложно, а торшеры только-только входили в моду и слыли дефицитом. Вот их и понанесли, а Миропольские с ними потом потихоньку расставались. Гости, как я думаю, конечно, могли надуться и встать в позу, но куда же столько? В момент переезда эта история ни у кого не вызывает даже улыбки. Вещи выносят молча, а баба Тоня плачет.
Дроздовы уезжают. Вместо них в квартиру вселяется какая-то киргизская семья. Муж с женой и их дочка-студентка Гульнара. Новая соседка пытается подружиться. Говорит, знает, как мы дружно жили, и угощает горячими чебуреками и беляшами с пылу с жару. У нас в сушилке всегда стояли блюдца Дроздовых, если баба Тоня готовила что-нибудь вкусное, а у них - наши. Чебуречные тарелки какие-то чужие, незнакомые. Отчего делается еще тоскливее.
- Правда вкусно? - спрашивает меня мама.
- Невкусно, - буркаю я, демонстративно отодвигая угощение в сторону.
И это неправда. Чебуреки с хрустящей корочкой, баранина сочная, так и брызжет. От этого на душе становится только муторнее, неспокойнее. Хоть плачь.
Первое время Димка приезжает во двор часто, чтобы увидеться с нами. Иногда просит пустить его в старую квартиру. Но там уже все не то. Муж новой соседки ворчит на жену, что разрешила зайти, скользит за Димкой подозрительно цокающей тенью. А тот и сам не рад, что напросился. Квартиру еще считает своей, а люди в ней живут уже другие. От этого он только больше злится и мрачнеет. Игра не ладится, разговор тоже. Димка садится на "одиннадцатый" и уезжает. Во дворе он появляется все реже.
Ему действительно разрешили пока жить у бабушки. И иногда я выбираюсь к нему. Он рад меня видеть, но уже все не то. Застаю у него дома незнакомых парней. Говорит, одноклассники. Так, конечно, и должно быть. Но тогда понимать этого не хочется. Да и Димка новых знакомых при мне как будто сторонится, стесняется. Начинает держаться преувеличенно равнодушно, на самом деле пытаясь скрыть за этой бравурностью и липовой независимостью какую-то внутреннюю неловкость и злость.
Мы видимся все меньше и меньше. И потом дело доходит до взаимных приглашений на наши дни рождения.
Два раза в год.
Все остальные встречи - от случая к случаю.
23Переезд Дмитрия еще больше сближает меня с Борисом. Даже не знаю, кто из нас ходит за кем по пятам. Этой осенью Борис пойдет в школу. Учиться ему не хочется, но любопытство берет свое, и каждый день он расспрашивает меня про класс, про то, как ставят оценки, трудно ли выполнять домашнее задание. От школы я тоже не в восторге, но стараюсь ему рассказать что-нибудь интересное: про экскурсии в зоологический музей, про встречи с ветеранами войны, про сбор макулатуры, желудей, металлолома и школьный лагерь, про летнюю продленку, когда ты весь день живешь в классе и даже спишь в нем, потому что каждому нужно притащить с собой из дома раскладушку.- Сначала вас мучить не будут, - успокаиваю я. - А первое сентября вообще день знаний и по расписанию только урок мира и знакомство.
Борис спрашивает, сколько этих уроков на неделе.
- Знакомство - пока не познакомишься, - чуть сбитый с толку, отвечаю я. - А урок мира - раз в год.
- Все бы уроки были раз в год, - мечтательно протягивает Борька. И в голосе такая неподдельная надежда, что это вдруг окажется правдой. - А больше таких редких уроков нет?
- Нет, - говорю я. - Только урок мира. Ну и если уроки пения отменят. Певичка у нас часто болеет.
Но Борис думает уже о другом.
- Значит, надо сразу со всеми познакомиться, - соображает он. - А то меня каждый день знакомиться оставлять будут.
Больше всего ему нравится мой рассказ о красных звездочках на тетрадях. Это у нас так учительница Раиса Ивановна придумала. Если у тебя пять пятерок подряд, на обложку можно приклеить вырезанную из цветной бумаги звездочку. Только не так-то просто ее заработать. В самый последний момент тебе обязательно попытаются влепить оценку ниже. Но если постараться, то можно этого избежать. На одной пухлой тетради у меня сразу семь звездочек. Наша библиотекарша говорит, что Ленин тоже был круглым пятерочником. Она вообще про Ленина много знает. Даже стихи про него пишет:
Ленин был Великий Вождь,
Правый Вождь Народа.
Он хотел, чтоб всем Жилось
Хорошо, свободно.
Чтобы Люди не страдали от царя,
Чтоб Народ ни от кого бы не зависел.Причем почти половина слов, к месту и не к месту, с заглавных букв. А нас потом эти стихи заставляют учить к урокам внеклассного чтения.
Борьке это наверняка не понравится, и я умалчиваю. На некоторое время его заинтересовывает мой рассказ о переходящем знамени. Хотя на самом деле это какая-то статуэтка с пластмассовым флажком. Класс разбит на звенья по четыре-пять человек. И вот каждое звено борется всю неделю за этот дурацкий флажок, чтобы субботние уроки он простоял на одной из парт победителей. А чтобы ими стать, надо не только получать отличные отметки, но и не бегать на переменах по коридорам, ходить в столовую парами, держась за руки, аккуратно одеваться, следить за формой, галстук завязывать "подушечкой", красиво заполнять дневник и вовремя показывать его на проверку дома, не забывая при этом повсеместно еще и подавать всем пример своим внешним видом и поведением.
Короче, делать из-под палки уйму никому не интересных вещей. Кстати, самая противная из них - ведение ежедневного календаря погодных условий по географии, чтобы учительница, заглянув в начало общей тетради, смогла припомнить, в каком направлении дул ветер полгода назад и накрапывал ли дождь или, наоборот, подмаргивая лучами, сияло солнце. Как послушаешь нашу классную на родительском собрании, географичке это безумно важно знать.
Борька от этого рассказа скучнеет на глазах.
- И что, так всегда? - удрученно спрашивает он.
- Всегда, - отвечаю я.
Я и сам ненавижу гонку за этим переходящим флажком. Его все равно никогда не оставляют дольше чем на один день. И с понедельника приходится начинать все по-новой, прямо на колу мочало. Ему радуются только заядлые отличницы и зубрилы Аня Клейменова и Виктория Шохина. Да и то постоянно переругиваются, кому он достанется на этот раз. Они в разных звеньях, потому что, как нам объяснили, должны уравновешивать своими пятерками успеваемость двоечников и "камчатников". Хотя какая успеваемость может быть у тех, кто постоянно получает "пары"? Аня Клейменова, пока не располнела, мне немного нравится. Но у нас разные интересы. Ее страсть к учебе, особенно к физике, мне не передается. Отличником по всем предметам я был только в первом классе, где-то даже грамота пылится.
Когда Борьке покупают ранец и готовальню, он еще больше не хочет идти в школу.
24К нам в класс из другой школы переводят сразу трех киргизов. Начинается что-то невообразимое. Они то и дело подзуживают наших пойти подраться с русскими. Держатся вместе, борзо и с вызовом. Объясняют, что надо "чморить", и наглядно показывают свои скотским поведением, как это делается. Подкатываются к тем, кто послабее, силой отбирают деньги на столовую, навешивают саечек и заставляют писать ответы на задания контрольных.Я ничего не могу понять. Положим, меня пока не трогают. Первые три года я был самым сильным в классе, и об этом еще помнят, да и пришлым, видимо, рассказывают. Новички даже набиваются ко мне в приятели. Но почему Азамат, Нурлан, Азиз, Анвар и Улугбек, то есть все "наши", с полуслова подхватывают их науськивание? По школе передвигаются важно, гурьбой, заручаясь поддержкой киргизов из других, старших классов.
Уже на второй неделе новой четверти на больших переменах за школой начинаются драки. Димка Мещеряков добрый парень, он всегда помогает девчонкам носить портфели и поливает цветы, потому что назначен цветоводом. Но когда Анвар дает ему исподтишка пинка, он соглашается идти с ним драться. С Ормушевым Димка просидел полтора года за одной партой, а теперь, окруженный новичками вместе с их внезапными приспешниками, вынужден защищаться от его ударов. Достается Анвару. Димка здоровый, сбитый. Но тут же ему в ультимативной форме предлагают драться с одним из переведенных, и теперь достается Мищеру. Он уже устал и пропускает пару ударов в лицо. А дерутся до первой крови. Но, как я думаю, это только пока.
Картина повторяется изо дня в день. Билик и Староконь отделываются еще дешево. Андрей Билик дерется не впервой, Староконь занимался боксом. А вот Грекову, Кривошеину, Рогожину и Платову достается, как и всем остальным. Пока не трогают только меня и Вадю Елового. Шея у него здоровая, бычья, кость широкая, не подступишься.
Мы пытаемся поговорить с "нашими". Азамат прячет глаза, Нурлан улыбается, будто здесь ни при чем. Он действительно еще не дрался, но все равно на стороне киргизов. У него мать завуч школы, но не пойдешь же жаловаться. С нами соглашаются, говорят, что это так, не обращайте внимания. Все произносится как-то неуверенно, с паузами, невнятно. Да как не обращать, если у Яшки Юртаева заплыл глаз, а Максиму Мардышеву разбили губу. На следующий день все повторяется. Включается какой-то стадный механизм, словно три новичка имеют на остальных какое-то безграничное влияние.
Появляются первые перебежчики. Это те, кто уже не хочет ни драться, ни получать. Платов, Юртаев и Греков. Но их не оставляют в покое. Подговаривают, чтобы они все-таки дрались, но уже с нами. Меня вызывает Димка Греков. Он маленький, щупленький, голос дрожит, но заученные гадости так и срываются с языка. Я собираю портфель и ухожу с оставшихся уроков. Вечером Билик притаскивает Грекова за шиворот ко мне домой извиняться. Я ни с того ни с сего плачу, Димка плачет, и мы вроде миримся.
- Пойми, мы же с тобой, - говорит он. - Меня же просто заставили.
Я понимаю. Иначе бы Грекову дали по зубам. Но это ничего не меняет. День ото дня в школе становится все труднее. И ни я, ни Вадя Еловой уже не составляем исключения, заворачивая после уроков за школьный двор.
25На Московской творится то же самое. Только там права качают парни из академического дома. Дом огромный, пятиэтажный, приплюснутый буквой "П". Русских семей всего шесть, остальные - киргизы. Семьи у них разросшиеся, многодетные. От мала до велика, где-то возраста самого старшего из нас, набирается больше ста пятидесяти человек. Это на нашу-то компанию, которая во столько раз меньше.Стаса, Макса и Андрея из углового подъезда не трогают, есть варианты и попроще. Но и за нас они не заступаются, от греха подальше. Каждый с головой уходит в свои дела, и во дворе их почти не видно. Больше всего достают Ганкина и Меньщикова. Отводят в сквер и бьют. Они, конечно, тоже стараются врезать. Но что поделаешь, когда своих можно пересчитать по пальцам, а киргизов каждый раз ватага голов под пятнадцать - двадцать. Да меньшим числом в нашем дворе они и не показываются, разве что пройти к остановке. К тому же чаще всего вместе с ними дерутся Зака и Доктор-бек. Они занимаются карате и, шансов выстоять против них нет, если только кирпичом по голове дать.
Андрей выходит из себя, психует. Леха с остервенением занимается гантелями, покупает гирю. Просит, чтобы я как можно сильнее бил его по животу - проверяет пресс. Я отнекиваюсь, но когда он настаивает, бью. Понятно, что не изо всех сил. Я его все-таки уважаю, хоть он и заиграл у меня несколько лет назад мою первую модельку. А Ганкина я и сам, когда поднажму, валю, даром что он на две головы меня выше. Вымахал в момент, а крепости никакой, враз куда-то ушла. Подсечешь, придавишь, а он уже подняться не может. Вцепится в волосы и дерет что есть дури. Вот тогда - больно. Но с киргизами так не поступает, боится.
Да только боится их не он один. А мы все. Как ни делаем вид, как ни хорохоримся.
26У Борьки в классе таких безобразий почти нет. Все еще маленькие, всегда на виду. Многих родители встречают из школы. Если у меня уроки заканчиваются рано, Бориса до дома провожаю я. Или он сам немного ждет, когда меня задерживают после уроков, заставляют дежурить, ставить на парты стулья и мыть доску. Я все-таки убедил его пойти в двадцать восьмую школу. Точнее, думаю, что тоже приложил к этому руку.Но после первого класса Борис не остается. Летом умирает его учительница, Раиса Ивановна, которая до этого учила и меня все начальные три года. Он переходит в тринадцатую. Там усиленный английский и Светка Манштейн. Она все еще крутит свои "хула-хупы" и по-прежнему нравится Борису.
К моим доморощенным урокам английского языка, которые я устраиваю ему время от времени, он охладевает. Пополнение словарного запаса "э пэнами" и "э пэнсалами" уже не трогает его. Этого добра теперь и без того хватает. Чтобы он хорошо выучил язык, в первую очередь хотят его родители. Но у Бориса действительно получается, и он увлекается английским, как я - теннисом.
По вечерам мы изучаем самиздатовский самоучитель по карате, который мне на время где-то достала мама. Борька терпеливо переписывает его своим корявым почерком, я помогаю с рисунками. По рисованию у меня "пять". За меня всегда рисовала мама, но смазанные фигурки по трафарету у меня все равно получаются. Мы оба думаем, что умение дать сдачи теперь нужно нам на долгие годы.
Двор затихает. Саня Мельников живет с родителями, они объясняют ему, что нужно привыкать к новой квартире. Колобок пропадает у своей второй бабушки где-то в Рязани. Его мать развелась с отцом, и говорят, что теперь у нее много мужей. Макса Усецкого забрала в Израиль тетка. Димки нет. Родители Бутенко наконец уехали с Севера, но во Фрунзе так и не вернулись, осев где-то в России. Аскер совсем плох. На полной скорости его сбила "Волга", когда он завязывал шнурки на дороге. Его так учили: развязался шнурок - немедленно завяжи, чтобы не упасть. Вот он и завязал. Теперь вообще может не ходить в школу.
27Перед Днем Победы мою бабушку приглашают в наш класс рассказать о войне. В девятнадцать лет она записалась добровольцем на фронт. Служила в войсках связи, радисткой. Я прошу ее не ходить. Все равно эти скоты не дадут слушать и испортят выступление своими идиотскими репликами и ухмылочками. А учительница, вместо того чтобы поставить их на место, осечь, будет метаться по классу, заламывать руки и с экзальтированной укоризной пришепетывать:- Ну мальчики, ну хватит. Ну сколько это можно терпеть?! Ну я больше не могу.
Но бабушка уже согласилась. И ей теперь очень неудобно отказаться. Вот всегда так, что ей - что маме. Она спрашивает, почему я уговариваю ее не ходить? Но как я объясню, чтоб она поняла, что именно так и нужно поступить? Скажу, что все киргизы - дураки, потому что дали Староконю по шее и науськали на меня бывшего приятеля?
На удивление все проходит гладко. Мою бабушку слушают внимательно. Включен проигрыватель, и перед началом рассказа все слушают "Этот День Победы порохом пропах..." в исполнении Льва Лещенко. У нас дома есть эта пластинка, и бабушка всегда плачет, когда ставит ее. В классе у нее тоже чуть не наворачиваются слезы, но она молодец, держится.
Киргизов почти нет. Они с вызовом ушли сразу после уроков. Думают, что кто-то, кроме учительницы, будет по этому поводу сильно переживать и глотать валокордин. Я же только рад.
Бабушка рассказывает, как один раз они ехали в грузовике. Перегрелся мотор. Шофер взял ведра и пошел на реку за водой, недалеко текла. А она вызвалась ему помочь. Началась бомбежка, а когда все стихло и они вернулись, увидели, что от машины осталась лишь покореженная кабина и в живых - никого.
- Вот видите, как важно помогать людям, - врезается после рассказа наша классная Галина Сергеевна.
Ни черта она, оказывается, не понимает. Еще бы добавила: "Вот видите, как важно доносить ведра во время войны!" И сочинение на эту тему задала бы. Тимуровка набитая.
28В Ташкенте есть обелиск памяти студентов Индустриального института, погибших на фронте. В списках значится и моя бабушка. В сражениях за Керчь она получила два ранения: в голову и в ногу. Немцы теснили наших к Черному морю, от вражеских самолетов темнело небо. Количество катеров было ограничено, и в первую очередь эвакуировали раненых.Тогда некоторые солдаты стали мочить в лужах с кровью бинты из походных аптечек, рвать на себе гимнастерки и, окрасив тряпье в кровавые разводы, обматываться им, имитируя ранения, чтобы тоже попасть на катера. Об этом стало известно женщине-комиссару, ответственной за отправку. Вместе с несколькими бойцами она перегородила подход к причалу и стала сдирать с раненых повязки. Если под ними действительно оказывались пулевые отверстия, раненых и их сопровождающих, когда те были уже неходячие и тем более не могли передвигаться самостоятельно, - пропускали. Если раны не было, комиссар без разговоров пускала пулю в лоб за дезертирство.
Бабушка была уже недалеко от одного из катеров, когда немецкая атака усилилась. Самолеты пытались разбомбить причал. Началась паника. Заслоны смели, задние ряды надавили на впереди идущих, и многие из тех, кто готовился к погрузке, попадали в воду. Кто-то из ее знакомых увидел, что бабушка тоже упала, о чем впоследствии, видимо, и доложил. Иначе как бы появилась надпись на обелиске? Утонула, с ее-то ранениями.
Бабушку спас матрос. Вовремя заметив, что ее столкнули, он бросился с палубы в море и успел вытащить ее за волосы. Бабушка так никогда и не узнала, кто был этот человек, как его звали. Матрос - и все. На этом ее война закончилась.
Но про бомбежку и эвакуацию из Керченского порта она классу не рассказывает. Не так поймут. Да и к чему это? Галина Сергеевна хочет слышать про ведра. Любопытство учеников с лихвой удовлетворено разнесенным грузовиком. Бойцы Красной Армии, конечно, могут испытывать человеческие чувства: любить, защищать и спасать. Но не мочить лоскуты в кровавых лужах и не сбивать с ног раненых.
Бабушка вообще не любит эту историю. Говорит о ней отрывисто, скупо. От нее я слышал ее только раз.
29Бабушки не стало в феврале. До этого она очень долго болеет. Затяжно и без каких-либо улучшений. Врачи говорят, рак. Только уже очень поздно. Мама навещает ее каждый день. После работы мчится в республиканскую больницу, достает какие-то лекарства. Через день я езжу вместе с ней. Бабушка пытается бодриться. Но делать это дается все труднее и хуже.Мама плачет. По вечерам долго сидит на кухне, курит, хотя скрывает от меня. А потом, вместо того чтобы немного отдохнуть, встает к лите и что-то готовит. Завтра все равно опять занят целый день и не успеть. Очень переживает, что я предоставлен самому себе, и просит не переставать заниматься теннисом. За тройки, которые начинают проскальзывать в школе, не ругает. Просто берет с меня слово, что я постараюсь.
У бабушки день рождения. Мама печет в больницу ее любимый торт "Наполеон". Приходят две ее подруги. Мы располагаемся на одной из лавочек в больничном дворе. Бабушка благодарит, но говорит, что скоро обход. Берет с собой в салфетке кусочек торта и почти сразу уходит.
Мама все больше плачет. Она похудела, осунулась на глазах. Сильно выматывается, лекарства не помогают, и врачи только качают головами и разводят руками. Хотя все понятно и так. Зимой бабушку выписывают, мы забираем ее домой. Она уже не встает. Я провожу с ней все время после школы и до прихода мамы. Готовлю в этой комнате уроки, читаю вслух какие-то газеты, что-то подаю. У нас начинает жить баба Валя, жена старшего бабушкиного брата.
- Надо помочь нашей девочке, - как мы узнаем позже, говорит баба Валя на семейном совете, когда мама почти уже не держится на ногах.
И переезжает к нам. Буквально за несколько дней до кончины.
Я же помню другое. На похоронах, при подъезде к кладбищу, она говорит моей маме:
- За бензин рассчитаемся потом.
Произносится это с искренним пониманием, что сейчас действительно не до того.
За рулем - мамин двоюродный брат, но он ничего не говорит своей матери. От этих слов его всего передергивает, и руки еще сильнее сжимают руль.
Но я все-таки надеюсь, что могу назвать себя незлопамятным человеком.
* * *
Утром того дня, когда умирает бабушка, мама посылает меня к одной из своих подруг предупредить о случившемся. Она преподает по совместительству в интернате, и номера телефона, чтобы туда позвонить, никто не знает. Да и бежать всего два квартала. То утро я вспоминаю довольно часто.
Меня останавливает Канат, здоровый киргиз лет на пять старше. Он никогда не упускает случая докопаться до меня, что-нибудь отнять или ударить. Я тороплюсь, реву, мне всего восемь лет, и только что умерла моя бабушка. А тут еще хотят достать, цепляются. И вместо того чтобы поступить как-то иначе, хотя и не знаю как, потому что из-за спешки нет времени думать и голова занята абсолютно другим, - я вынужден лебезить и полуизвиняющимся тоном объяснять этой сволочи, которая не дает прохода, что у меня только что умерла бабушка и меня попросили сбегать, и прочее, и т.п. Как я ненавижу в тот момент ухмыляющегося выродка, который после обшаривания карманов все-таки отпускает меня.
Но кто бы знал, как я ненавижу тогда и все время позже самого себя.
30Раньше наша семья жила в Оренбурге. Там же, в двадцать первом году, родилась моя бабушка. В тридцатые прадед попал в поток переселенцев в Среднюю Азию. Молодые республики становились на ноги, и требовались специалисты. Конечно, некоторые сами вызывались ехать, помогать, учить, строить. Но чаще о желании не спрашивали, вырывая людей из Москвы, Рязани, Самары, Калуги, Омска.Оренбург сменился Ташкентом. Из Ташкента на фронт и ушла моя бабушка. Она была секретарем комсомольской организации института и не раздумывала о том, идти ей воевать или нет. Но сначала были курсы в Новороссийске, где ее обучили радиоделу. К тому же она хорошо знала немецкий, и позже ей доводилось быть переводчиком, когда брали пленных.
После ранений и возвращения домой бабушка не стала доучиваться в Индустриальном. Время было голодное даже в хлебном городе, и она подала документы в Железнодорожный институт - единственный тогда на весь Ташкент вуз, где выплачивали стипендию.
Получив профессию инженера железнодорожного транспорта, по распределению преподавала в Самаркандском техникуме. И теперь уже не она следовала за своей матерью, а моя прабабушка переезжала вместе с ней. В сорок восьмом семья наконец осела во Фрунзе, куда тоже был получен перевод - уже не только прадедом, но и моей бабушкой.
Как-то она мне показала место своей бывшей работы. На сером каменном здании висела массивная табличка с таинственной надписью: "Министерство местной промышленности". И все важные люди, входившие в этот огромный грозный дом и выходившие из него, останавливались поздороваться с бабушкой и не без любопытства пялились на меня.
- А это кто же, Вера Михайловна, внук ваш?
- Внук, - гордо отвечала бабушка.
И я тоже ею очень гордился. Тем, что она - моя бабушка. И тем, что ее все знали и каждый норовил пожать ей руку, хотя мама уже учила меня, что женщине руки для приветствия не подают; только если она сама протянет первой.
А какая-то бабушкина знакомая Фирюза даже сказала, что отдел внутри- и межреспубликанских поставок теперь без моей бабушки - как без рук. Я, правда, не понял, как у отдела вообще могут быть руки. Но потом все равно с удовольствием повторял эту фразу целый день и несколько раз произнес ее специально для мамы, чтобы она тоже знала, какая у нас бабушка.
31Память у меня сохранилась с двухлетнего возраста. Конечно, обрывками, не полностью. Первое, что я помню, - двор в Куйбышеве, куда мы ездили еще все втроем к бабушкиной фронтовой подруге. Это я понимаю только в свой следующий с мамой приезд. Сразу показываю нужный подъезд и спрашиваю бабу Галю, не стояла ли за аркой большая бобина с проволокой? В моем представлении она вообще не имела размеров: круглая гора величиной с дом. Выясняется, что она и сейчас еще здесь, ее только откатили в глубь двора. Теперь катушка не кажется мне такой огромной, и я удивляюсь, как мог принять ее тогда за целую гору?Иногда я рассказываю Борису или Димке вещи, которых они наотрез не помнят или вовсе не верят, что подобное могло случиться. Спрашивают у своих родителей, а те, к их удивлению, подтверждают, что так все и было. Но к концу восьмидесятых уже никто из нас не верит, что стояли дни, когда мы беззаботно играли во дворе, не боялись киргизов и единственной нашей "обязанностью" считалось убежать от разъяренного Эдика, беснующегося по поводу того, что мы печем картошку, а значит, можем спалить всю округу.
В таких случаях двор делился на два лагеря. Сторонники Эдика проводили с нами душеспасительные беседы, обещая оборвать уши. А родители тех малышей, кому мы заодно соглашались испечь картофель, вставали на нашу сторону. Картошку, конечно, можно было попросить приготовить и в духовке. Но почерневшая от золы, обжигающая ладони, приготовленная своими руками, она ни в какое сравнение не шла с домашней и была гораздо вкуснее. Только Эдик или Кадников все равно могли после словесной перепалки выйти с ведром воды и залить костер, а помешать им в этом не брался никто.
Выход нашли мы сами, случайно надыбав на развалинах частного дома железную печурку. Картошку пекли теперь в ней и в случае опасности убегали вместе со своей "полевой кухней", хватаясь за раскаленные ручки толстыми тряпками. Правда, что могло по-прежнему не нравиться ретивым тушителям, мы так и не понимали. Из-за закрытой заслонки огонь уже никуда бы не перекинулся при всем своем желании. Но от нашего железного, в прямом смысле слова, "оправдания" Эдик выходил из себя еще больше: вредность и сила привычки гонять нас брали верх.
Сейчас от грозных приверженцев порядка не осталось и следа. Кадников умер. От Эдика ушла жена, а его самого кто-то уговорил заняться бизнесом и, прикрываясь выручкой денег для начального капитала, кинул с квартирой. Где он теперь живет, никто толком не знает. Лишь изредка, рассказывали, приходит во двор по старой памяти: весь какой-то поношенный, заросший щетиной, обветшалый.
Обиды со временем забылись; и его, и Кадникова жалко.
32В предпоследнее перед отъездом лето я понимаю, как ненавижу лагеря. С теннисной секцией отправляюсь на горную спортивную базу "Чон Таш" и даю зарок, что ноги моей в таких летних оздоровительных загонах не будет. И дело не в том, что двадцать четыре дня подряд тренировки по восемь часов, в два захода - до и после обеда.Муштра, дурацкие порядки, линейки с обязательными речевками: "Сегодня орленок, а завтра - орел", отвратительная кормежка, дежурства и посменное мытье посуды в столовке почти на три сотни человек, загаженные туалеты, перебои с водой в бане. Все это доводит до белого каления.
Но причина даже не столько в этом. Перед моей полудобровольной, из-за незнания, ссылкой сюда наша дворовая компания впервые сталкивается с тем, что взрослые витиевато именуют "так называемым еврейским вопросом", который мне непонятен до сих пор. Нас волнуют только киргизы, они травят нас и не дают продыха, а здесь вдруг возникает что-то еще. Хотя дело, как мне кажется, не стоит и выеденного яйца.
В прошлой сезон мы отдыхаем с Борисом на Иссык-Куле. Мы с мамой на постое, снимаем комнату у частников в селе Бостыри. Борька с родителями - в пансионате. И это до того великолепно, что и следующее лето мы договариваемся провести где-нибудь вместе.
Но Бориса собираются отправить в лагерь, количество путевок в который ограничено. Я прошу его мать, тетю Лину, справиться, нельзя ли поехать и мне. Она обещает узнать и узнает, но с ответом почему-то не торопится. Позже я узнаю от своей мамы, что ей тетя Лина рассказала всю подноготную сразу, как только сама вникла в дело. И они обе ломали головы, можно ли что-то придумать и как лучше объяснить происходящее мне.
Когда сроки уже поджимают, я вновь завожу с Бориной мамой разговор о поездке. И тогда она, вздохнув, говорит, что лагерь - еврейский и отдыхать в нем могут только дети евреев. Поэтому Борису - можно, а мне - нет. Я удивляюсь, не понимаю, злюсь. Борис изумлен не меньше моего. Мы решаем пуститься на хитрость, спрашиваем: нельзя ли обмануть? Ведь если Миропольский может быть евреем, то Янковский, наверное, тоже. Но на слово устроители этого лагеря не верят. Графу "национальность" в паспорте еще никто не отменял, да и вторая фамилия у Бориса - Шерман, а у меня, если по одному из дедов - Яровой, а по прабабушке так вообще - Щекин.
Борька тоже выходит из себя, отказывается ехать. На разные лады мы костерим эти непробиваемые правила без исключений. Но менять зачем-то установленный порядок зачисления никто не собирается. Тете Лине я в любом случае признателен за правду, а не за отговорки типа: "Мне очень жаль, но оказалось, что все путевки уже давно раскуплены". В конечном итоге Борис едет в лагерь один. А я отправляюсь на "Чон Таш".
Оба мы так и не понимаем, кому понадобилось разлучить нас. Уж если кого куда и не пускать, так это киргизов; особенно из соседнего академического дома и моего класса.
33Возвращаясь из лагеря, я все еще пытаюсь уяснить для себя случившееся. Мама теряется. Она загружена работой и рада, что в теннисе у меня успехи, а в школе вроде все, тьфу-тьфу, налаживается - последняя четверть выходит "на ударно" и троек за год нет.Не зная, что ответить, она рассказывает вот какую историю.
В ганкинском подъезде живет Григорий Берштейн, молодой врач-онколог, лет двадцати шести. Он уже заканчивал школу, когда Стас, старший из нашей компании, еще только пошел в первый класс. И поэтому ничего о детских похождениях этого самого Гриши мы не знаем, воспринимая его как хронически взрослого.
Но тогда он еще не подозревал, что будет работать в диспансере и бороться против курения, и частенько покуривал сам, втихую от матери и отца, у которого таскал сигареты. Разумеется, за смолением цигарки его и застукали. Да не кто-нибудь, а хорошая приятельница и соседка его матери, тетя Софа.
И вот что тетя Софа сказала при встрече Розе Берштейн.
- Розочка, какой у тебя Гриша мальчик, - сказала она. - Какое это у тебя золото. Какой умница, какой красавец, какой способный, вежливый, обходительный мальчик! Если бы мой Яшка был хоть немножечко похож на твоего Гришу, я бы уже умерла спокойно. Иду вчера с магазина, стоит Гриша с мальчиками. Меня увидел, шапочку снял, сигаретку изо рта вынул и говорит: "Здравствуйте, тетя Софа". Да так вежливо, что Боже ж мой, Розочка. Какой мальчик!
Мама замолкает. Я жду продолжения, но похоже, что это - все.
- Ну? - не выдерживаю я.
- Не понял? - спрашивает мама.
Еще полминуты я без особого интереса перевариваю услышанное и честно признаюсь:
- Нет. Она ведь все равно его заложила. И еще зачем-то похвалила за то, что он снял свою дурацкую шапку, вместо того чтобы отругать за сигарету. Вон как Лехе тогда от матери досталось, по первое число!
- В этом-то все и дело, - говорит мама. - Они изначально задают своим детям высокую морально-этическую планку во всех их поступках и проявлениях. И потом при формировании помыслов и идеалов эта планка не дает опуститься ниже заданного уровня. Хотя, конечно, не всегда. Но они во всем стремятся видеть хорошую сторону, даже в негативе - позитив. Один раз еврейский парень изнасиловал девушку, а дома сказали: "Наконец-то наш мальчик влюбился".
Я сижу с открытым ртом и пытаюсь свести концы с концами. Об изнасиловании я имею довольно смутные представления, но знаю наверняка, что ничего хорошего в нем, как ни крути, нет. Такого откровенного разговора я не ожидал, и мне многое непонятно.
- А с курением что? - все же спрашиваю я, уже сам будучи не рад, что затеял это сложное, путаное для меня выяснение.
- Софья, отчество забыла, ну допустим, Марковна произносит при встрече искусную речь, - садясь и вытирая руки о кухонный фартук, говорит мама. - Она ставит в известность и мать Гриши, потому что та должна знать, что сын курит. Но в то же время не загоняет ее в неловкое положение, не устраивает сцены, не заставляет ее оправдываться и тут же бежать выяснять что-либо. Мастерски подготавливает, умастив материнское сердце и душу, дает ей самой решать, как поступить с сыном в этой ситуации: позже, с глазу на глаз, не делая это достоянием общественности.
- Ну ведь не все так, - говорю я.
- Не все, - соглашается мама. - Но как бы это скорее всего было у нас? "Слышь, Галка, твой Ванька, паршивец, за домом дымит вовсю. Ванька, иди сюда, морда ты этакая, сейчас уши надеру, стервец. Придет отец с работы, все расскажу, он тебе ремнем задаст, получишь ты у меня!"
Я смеюсь. Мама устало улыбается.
- Но ведь тоже не все так, - опять говорю я.
- Не все, - опять соглашается мама.
Я так и не понимаю. Но это все, что знает моя мама о "так называемом еврейском вопросе", в котором тоже ничего не может разобрать.
34Летом двор всегда выглядит чуть заброшенным, пустым. Многие разъезжаются в отпуска, навещают какую-то дальнюю родню, кого-то проведывают и достают путевки на Иссык-Куль или едут туда дикарями. Теперь прибавляется новая причина. В этот сезон отцы семейств уезжают в Россию искать жилье, договариваться о работе, узнавать об условиях и возможностях перевода. Обмен идет вяло. На жару, фрукты и горы люди уже не столь падки. К исходу августа выясняется, что из нашего двора уезжают несколько семей. В них нет детей, и поэтому мы знаем отбывающих больше в лицо, чем по общению. Но все равно рушится какая-то привычность, когда понимаешь, что вскоре ты, может, никогда не увидишь и кого-нибудь из своей компании, с кем провел всю дворовую жизнь.Из класса уходят толстяк Женька Рогожин, всегда переодевавшийся на утренники Портосом, и Ванька Гусев - его отцу, как говорят, повезло: он нашел должность инженера на металлургическом комбинате. В глухой, затерянный сельсовет перебирается родная сестра маминой сокурсницы Тани Крышиной. Ее мужу удалось всеми правдами и неправдами добиться разрешения взять в аренду бревенчатый дом в Воронежской области и даже небольшую пасеку. Выкупить дом сразу они не могут - не хватает денег, и выпутаться из положения собираются продажей меда и разведением хозяйства. Берта Владимировна Усецкая получает первые письма от Макса, она рада за внука. Говорит, что у него все хорошо и в Израиле до того все по уму, что даже помидоры там выращивают квадратными для более удобной транспортировки. А сама грустит, сидя на своем балконе, уставленном цветами. Куда-то пропадают Селедковы, в их квартиру вселяются переселенцы из Афганистана; кто сюда, а мы - отсюда.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
МАРЛЕВЫЕ ВОИНЫ1В городе начинает происходить что-то непонятное. Дома и улицы постепенно наполняются шепотом и пересудами, какими-то фантастически дикими рассказами и свидетельствами. Напрямую ничего не говорится, и рассказываемое, как правило, предваряется оговорками: сам не видел, но людям врать незачем. Причем в качестве источников ссылаются не на каких-то прохожих со случайно услышанными от них обрывками и недомолвками, а на вполне конкретные рассказы знакомых, соседей, сослуживцев.С разных концов города ползут слухи, тяжелые, смутные; ощущается что-то необратимое, мрачное, а что именно - никто не говорит, словно знают, но боятся произнести вслух и поверить в это, признать, что на смену прежнему надвигается новое и возврата к привычному укладу уже не будет никогда.
Все чаще взрослые собираются по вечерам на кухнях, отправляя детей в комнаты смотреть громче обычного включенные телевизоры и, точно между делом, следя, чтобы эти "недетские" разговоры не были подслушаны. Но вскользь подхваченные фразы только еще больше сбивают с толку, вносят сумятицу. Что-то пугающее слышится в осторожно произносимых словах.
На окраинах начинаются погромы. Но кто и что за этим стоит? Бьют витрины и фонари, палят газетные киоски, обрывают в автоматах телефонные трубки и корежат автомобили. Медленно, ночь от ночи, приближается эта невидимая сила, управляемая сумраком и чьей-то волей, к центру. И вот уже обугленные следы неизвестного, прошедшего с гиканьем, с криками под покровом вечернего часа чернеют гарью в соседних районах, кварталах, улицах. А поймать того, кто навис над всем этим, везде и нигде, не могут. И еще страшнее становится от мысли, что днем эта сила спокойно перемещается у тебя за спиной по тротуарам, садится в городские маршруты и покупает в продовольственных хлеб. А с наступлением темноты превращается в незнакомое, недочеловеческое и вылетает сеять в зареве огня разруху и пустоту.
Лица у русских людей становятся серые, пугливые. Бегут по своим делам, нигде не задерживаясь, боясь собственной тени и наперегонки с ней, чтобы скорее попасть в привычную обстановку, запереться в стенах и не выходить, пока новый день и заботы опять не выгонят их из дома на работу или по делам. Газеты молчат, местное телевидение как ни в чем не бывало желает доброго - "саламат сыздар" - вечера. Но ни молчанию, ни пожеланиям не верят, стараясь только как можно быстрее попасть домой и как можно дольше не покидать это пространство, дарящее хоть какую-то относительную безмятежность.
У нас, как и во многих других квартирах, появляются кипы бюллетеней и брошюр по обмену жилья. Мама покупает все выпуски, а потом долго и внимательно изучает их, подчеркивая или выписывая на отдельные листы некоторые варианты. На мои расспросы отвечает, что - нет, мы никуда не переезжаем. Но произносит это так, что становится понятно: нет - только пока, а подвернись что подходящее, там видно будет. Украдкой я заглядываю в мамин список и, более-менее разобравшись, прихожу к выводу, что отъезд нам все же действительно еще не грозит. Уж слишком нереальны вынесенные сюда предложения, а ведь они в проекции самые подходящие.
Варианты через Владивосток и Хабаровск (это из Средней-то Азии!), цепочки по восемь - двенадцать звеньев, условия бешеной доплаты и даже какие-то фиктивные браки, которые "возможны при ближайшем рассмотрении сотрудничества". Все это тревожит, вызывает чувства недоумения, ревности, но в то же время заинтересовывает, будоражит, затягивает. И иными вечерами я уже и сам сижу рядом с мамой и просматриваю бесконечные столбцы "Меняю", "Жилье", "Есть жилплощадь!", "Обмен". Сотни человеческих судеб, тысячи квадратных метров, вереницы телефонных кодов и номеров и километры коридоров с нависшими под самыми потолками зияющими пустотами антресолей - все это ждет, живет, трепещет в ожидании перемен и чего-то лучшего за безликими мелкими шрифтами разрастающихся многотиражек.
Мама продолжает следить за квартирным потоком. Но, по крайней мере при мне, звонить по указанным телефонам не решается, словно еще не может поверить, что именно к этим, уже вполне детальным выяснениям условий и обсуждениям вариантов движется запущенный механизм. Она неумело прикрывается праздным любопытством и "зондированием почвы", но все же просит меня ни с кем эту тему "раньше времени" не поднимать. Борису я признаюсь, и он говорит мне, что его родители интересуются тем же. И внутренне я не удивляюсь этому. Наверное, потому, что все разговоры повсюду сводятся к одному и на все лады муссируются возможности переезда. Только на душе становится еще горше и противнее.
2Погромы утихают так же внезапно, как и врываются в ночную столичную жизнь. Но неведомая сила никуда не исчезает. Она новый криминальный оскал, показывает словно мутировавшая нечисть постепенно привыкает к солнечному свету и дневному времени суток.На улицах начинаются избиения русских. Без предупреждений, со смехом, яростью и тем особенным цинизмом, когда знают наверняка, что против десятерых один не выстоит. Поначалу нападают чаще по вечерам, подкарауливая припозднившихся прохожих. Но, ощущая свою безнаказанность, вскоре принимаются делать выпадки и днем. И если раньше ты мог обезопасить себя, держась в людном месте около взрослых, то теперь, попадись под руку, не спасает и это. Не смущают даже переполненные остановки. Но что еще омерзительнее, нападающие уверены, что за намеченную жертву никто не вступится. Просто будут молча стоять в сторонке и смотреть с единственным желанием: лишь бы не тронули самого. А соберись и осмелься дать отпор, так, может, и вышло бы все совсем иначе.
"Чего ж вы не объединитесь и сдачи не дадите?" - в недоумении спрашивали нас взрослые, когда мы, ища поддержки, открывались и рассказывали им про наши школьные неприятности. Такой же вопрос хотелось теперь каждый раз выкрикивать в лицо и самим взрослым, когда у них на глазах затаптывали подобного им человека. Только выкрикивать его с бешенством, со злостью. А не ронять как бы случайно в воздух, как поступали в свое время они с нами: подтрунивая и предлагая дать сдачи, точно это была панацея, до которой мы никак не могли дотумкаться сами. Конечно, наши рассказы принимались тогда за детские обиды и списывались, похоже, на пресловутый переходный возраст. И лишь теперь до старших доходило, что "детские" обиды могут затронуть и их взрослую жизнь, да так, что мало не покажется. А еще, засыпая, я часто думал о том, что сейчас они, как и мы в классе, очень походили на тех марлевых солдат, о которых рассказывала моя бабушка, что мочили в кровавых лужах бинты и боялись дать сдачи на троллейбусных остановках вконец распоясавшимся и оборзевшим киргизам.
3По утрам на Ортосайском рынке находят трупы русских людей. Ночные сторожа ничего не слышат, их псы чутко дремлют, но дворники продолжают натыкаться на тела, и редкая неделя проходит без страшных находок. Власти не реагируют, печать ограничивается сухими и скудными констатациями. Были люди - и уж нет их. А кто, за что, почему? Страшно, неправдоподобно, необъяснимо. Да и что может объяснить, оправдать лишение жизни? Убивают из-за денег, из-за вещей; тела подбрасывают голыми или завернутыми в тряпки. Ортосай в отдалении от центра. Но трупы обнаруживают сразу, а осмелевших преступников поймать не в состоянии.Случаи объясняют межнациональными выступлениями против русских, и русские неволей в это верят. Другие "аналитики" утверждают, что творящееся - провокация направленная на то, чтобы эту самую межнациональную рознь и разжечь. В это люди также хотят верить, потому что свои ублюдки есть среди каждого народа и русские тоже ходят с ножами на русских. Но не верят до конца.
В одном из микрорайонов посреди бела дня убивают Илью Кузнецова. Он был сыном маминой коллеги по работе, и я сам его коротко знал - вместе занимались теннисом, пока он не оставил тренировки. Из-за чего у него отняли жизнь и кто это сделал, неизвестно до сих пор. Его матери сказали, что ее сын пробавлялся наркотиками и его гибель - логичный результат криминальных разборок. Это если учесть, что Илья только неделю как вернулся из армии и даже никогда не пробовал курить, до последнего помня о тренерских наставлениях, что с такой дыхалкой - ни к черту.
Теперь темная сила не таится. Наоборот, осмеливаясь раньше выбираться из своих логовищ только по ночам, рвется на дневной свет, проявляет себя и утверждается. Площади запружены демонстрантами. Это разношерстные толпы, в которых, кажется, не может быть ничего слаженного. Люди шумят, баламутят, что-то выкрикивают, обсуждают, пьют и смеются или даже просто так примыкают к всеобщему гомону, чтобы потом с гордостью сказать, что заваривание каши в общем котле не обошлось и без их участия. Не понять, ни чего они хотят, ни чего они требуют, ни чего добиваются. Гомон и гвалт поднимаются по городу, медленно перерастая в рокочущий гул. Но сами за себя говорят плакаты и транспаранты, которыми сотрясают воздух собравшиеся: "Русские - оккупанты", "Вон из свободного Кыргызстана", "Сволочи, убирайтесь домой!".
Такими надписями размалевывают заборы, стены, памятники. Их выкрикивают и скандируют в людных местах. Жирно выводят краской на школьных досках объявлений, на информационных стендах в больницах, учреждениях; на всем, что бросается в глаза или же вообще доступно взгляду.
По дороге к Чон-Арыку, за которым в предгорьях и на горах расползается огромное юго-западное кладбище, полным ходом начинается самовольный захват земель. До этого громили и жгли дачи, но многие люди все равно отказывались покидать свои участки, ведь на них еще оставались местами уцелевшие фруктовые сады, за которыми они ухаживали долгие годы. Однако со временем заброшенных домов или того, что от них осталось, становилось все больше. Опасность крылась и подстерегала и в городе, но задерживаться на дачах, расположенных вне его предела, было куда рискованнее и сродни добровольному росчерку под собственным приговором. Испытывать судьбу приходилось, даже просто выходя из дома за продуктами, так что лишний раз ее терпение старались не проверять.
Разговоры о миграции становились неотъемлемой частью любой встречи. Число отъезжающих из близкого круга или окружения знакомых росло как на дрожжах. Почти каждый день звучали новые фамилии, назывались пункты и направления, фигурировали какие-то суммы и сроки. Количество желающих покинуть республику превышало все мыслимые пределы. Жилье, которое и без того невозможно было продать, не говоря уже об обмене на Россию, обесценивалось в том же темпе, в каком рос отток отбывающих. "Успеть бы!" - носилось в воздухе. И чтобы усилить панику, киргизы теперь нарочно касались в своих выпадах и жилищного вопроса.
- И так все побросаете, нам оставите, - ухмылялись они. - Никаких обменов не получите, никаких доплат. Даром себе заберем. А ноги не унесете - вышвырнем.
И делали все для того, чтобы это произошло на самом деле: выживая, гнобя, перекрывая пути общения, изничтожая физически и унижая морально.
4Внезапно женится Андрей из углового подъезда, и эта новость на время затмевает все остальное, всецело переключает наше внимание на себя. Конечно, Андрей уже давно считается взрослым, но в любом случае это - первый человек из нашей дворовой компании, который решается на столь ответственный шаг. В сорок лет, а то и в тридцать восемь он уже может стать дедушкой. А Борькиному деду, хотя Борис намного младше Андрея, уже почти восемьдесят.Уш бежит домой и приносит растрепанную книжицу о всяких необычных явлениях, которые он называет паранормальными. В ней написано про китайца с тремя глазами, женщину, родившую одну только ногу, мужчину с лицом на затылке.
- Такая вещь, и ты еще молчал?! - укоряют Уша.
Но я знаю, почему он не трубил об этом сокровище на каждом углу, сам не люблю давать читать свои книги. Вроде и не жалко, да только вечно с ними что-нибудь происходит: не вернут, потеряют, замусолят страницы, сломают переплет. Целой отдадут - радуешься, казалось бы, должному, как дурак. А заляпают - так чуть не сам виноват: знал же, что могут отнестись неаккуратно, зачем, спрашивается, давать?
- Только вчера в "Букинисте" достал, вот и молчал, - отвязывается Уш.
В книжке есть глава про самую молодую маму на свете, которой исполнилось всего восемь лет, когда она родила ребенка. Выходит, такими молодыми, наверное, могут быть и отцы. Но Андрей уже гораздо старше, поэтому мы представляем, что бы было, если бы эта молодая мать оказалась его дочерью или досталась ему в жены.
- В шестнадцать лет - бабушка, в двадцать четыре - прабабушка, в тридцать два - прапрабабушка, - высчитываем мы, пытаясь обогнать друг друга. - В сорок - прапрапрабабушка, в сорок восемь - пра...
- В сто четыре года эта девчонка станет прабабушкой в одиннадцатой степени, - перебивает нас, умножив, Нихёль. - А дольше этого не живут. Только прабабка Олега, помните?
Мы соглашаемся.
- Очень хорошая книга, - говорит Стас. - Но в одном тебя, Уш, обманули. Тут написано не про паранормальные явления.
- А про какие же? - с ехидцей взвивается Уш.
- Про параненормальные.
Ни мне, ни Борису не ясны эти словесные премудрости. Но нам и некогда вдаваться в их обмозговывание - дальше мы натыкаемся на заметку о венгерском пастухе, пасшем отары овец до ста восьмидесяти четырех лет!
- Если бы он был женского пола, - помолчав, выдает Нихёль, - он был бы прабабушкой ровно в двадцать первой степени. А если бы Андрей женился и стал отцом не сейчас, а, как та девчонка, в восемь лет, он бы увидел того отдаленного своего потомка, что при нормальном раскладе родился бы только лет через четыреста! Уф-ф...
Мы ошарашены. Понимаем, как бы могло повезти Андрею. Но кто же знал? Да и где бы они все разместились в таком-то количестве, если сам Андрей еще не разобрался с жильем. Безумная связь поколений подавляет нас, и лично мы с Борькой ходим под впечатлением весь остаток дня. А когда я рассказываю все это вышедшему с палочкой Аскеру, он нам не верит.
- Пастухи в сто восемьдесят четыре года не рожают, - говорит он. - Зачем вы меня обманываете, ребята?
Но искреннее умозаключение и наивный вопрос Аскерушки на этот раз почему-то не забавляют Бориса. Оказывается, только что за ужином он узнал, что родители Светки Манштейн всерьез обдумывают переезд, и сильно переживает по этому поводу. "На всякий случай" Манштейны, как и многие другие, уже давно стоят в очереди за грузовыми контейнерами. Пока дойдет черед, может, что-нибудь и подвернется, надеются они. Сейчас контейнер им обещают уже в следующем месяце.
5На стройке новой, семидесятой, школы разбился киргиз. Стройка всего в двух кварталах от двора, и новость сразу разлетается по округе.- Наконец-то хоть один из них навернулся, - говорит Уш.
Вчера ему опять здорово досталось от Заки, и он ходит с распухшей скулой.
- Но ведь насмерть все-таки, - нерешительно протягивает Эльдар.
Он вроде и должен, пусть отчасти, считаться меж них своим, но особо его не жалуют.
С кем произошло несчастье, неизвестно. Когда мы подходим к школе посмотреть на труп, там уже все оцеплено. Стоит "скорая", милиция. Выясняется, что это был пришлый парень, и знать его никто не знает. Сорвался с третьего этажа и прямо на плиты. Выше стропила, плотники.
- Вот так и Мишка Ампилов чуть не погиб, - говорит Стас.
Эта история не нова. Еще при строительстве академического дома Ампилуга слишком сильно перегнулся через козырек пятого этажа и не удержался. Стас его тогда успел схватить за ноги.
В последнее время мы вообще часто любим вспоминать то, что случалось с нами раньше. Это не значит, что помним мы что-то только хорошее. Происходило всякое. Просто тогда мы все были еще вместе, да и какие-либо стычки считались редкостью или даже досадным недоразумением.
Помню, мне самому как-то влетело не пойми за что. Мы уходили с мамой в гости, я собрался раньше времени и отпросился в Тоголока Молдо. Туда прикатили телевизионщики снимать кинозарисовку с видами нашего сквера. Знаете, это такие маленькие передачки про идущих по своим делам людей, деревья, женщину с коляской или с книгой и т.д., которых даже нет в программе. Их показывают, если только какая-нибудь неполадка или профилактика, вместо заставки. Но я все равно подумал, что хорошо бы попасть в кадр.
А вместо этого все произошло совсем по-другому и до того скоропалительно, что разбирать, что к чему, пришлось уже позже. Сначала я нос к носу столкнулся с Ормушевым, который еще с одним парнем вылетел на центральную площадку с яблочного газона. Увидев меня, он автоматически остановился, вероятно, впопыхах запамятовав, что разговаривать нам не о чем, и действительно взялся расспрашивать какую-то ерунду, будто специально для того, чтобы ее выяснить, и несся сюда как угорелый, ломая кустарник и до того брызжа любопытством, что до сих пор вращал глазами и даже озирался по сторонам. Правда, делал он это как-то болезненно, стараясь охватить взглядом все пространство и в то же время не умея ни на чем задержать внимание. Потом он внезапно дернулся, метнулся куда-то в сторону, и кто-то мертвой хваткой цапнул меня за шиворот, заломив за спину руку. Анвара тоже скрутили.
Два разгоряченных, раскрасневшихся взрослых киргиза орали что-то на своей тарабарщине, матерились по-русски и мотыляли меня из стороны в сторону, нанося град тычков и ударов. Короче, толком я последовательность происшедшего не восстановлю, к испугу примешивалась еще боль и обида. Но, видимо, взбучка продолжалась не так долго, чтобы размусоливать здесь о ней еще на три страницы. Дав по шее, меня заставили показать, где я живу. Рядом семенили какие-то русские женщины, крича, что я не виноват, просили отпустить. Я же мало что соображал, вырывался, вызывая еще большее раздражение со стороны настропаленных мужиков, и ревел белугой.
Захлебываться от слез, вместо того чтобы еще раз попытаться все объяснить, я продолжал и когда два этих странных гражданина приволокли меня домой, высказав по ходу дела моей ничего не понимающей маме все, что думали по моему поводу и по поводу всего остального, происходящего в данный момент в мировом сообществе. Как выяснилось только впоследствии не без помощи сердобольных женщин, не оставивших меня на растерзание перекошенным от злости верзилам, я был принят ими по ошибке за какого-то негодяя, угодившего одному из них (я только потом припомнил набухающий под глазом синяк) из рогатки в лицо. А поскольку Анвар был замешан в этом напрямую, то и со мной церемониться не стали, и до следственного эксперимента дело тоже не дошло. Виновник торжества перед раздачей свалил, а шишки по закону подлости посыпались на меня. В кинозарисовку я не попал, поход в гости был отменен.
Но спустя много лет об этом происшествии вспоминалось чуть ли не как о нелепой путанице, не более того. Горький осадок, конечно, остался. Но это был все же случайный инцидент, носивший разовый характер. С нынешними же ежедневными стычками с киргизами не хотел мириться никто. Но и противиться им мы не умели. Поэтому наступил период, когда мы стали встречаться только друг у друга дома. И тут наша дворовая компания невольно раскололась еще на несколько частей.
У Алексея болела мать. У Ганкина была старая бабушка, Генриетта Исааковна. Она любила покой, а у нас без шума не получалось. Турабековы и сами не помещались в своих четырех комнатах. К тому же у них всегда было неряшливо, неуютно. Про Стаса и Андрея заикаться вообще уже не стоило - возраст вышел, а с ним закончилась и детскость. Да я у них и так никогда, считай, не бывал. Разве в пределах прихожей, если Стасов отец, дядя Алик, брался подлатать мой "Школьник" или дед Андрея, нумизмат, соглашался показать нам свои альбомы и пускал на полчасика к себе в кабинет.
Так что чаще всего я пропадал у Бориса, а он - у меня. Его отец купил видеомагнитофон, и теперь у Миропольских был свой кинотеатр на дому. Кассеты удавалось раздобыть редко, да и уровень лент, как я понимаю теперь, оставлял порой желать лучшего. Но сравнивать тогда было не с чем, и поэтому каждый фильм все равно становился открытием. Хотя среди них попадались и подлинные откровения: "Кошмары на улице Вязов" с молодым Джонни Деппом, "Попутчик" с харизматичным Рутгером Хауэром, "Покушение" с человеком с гармоникой Чарльзом Бронсоном. В последней картине кто-то мужественно говорит, что читал "Доктора Живаго". Отец Бориса удивляется и обращает на это наше внимание. Наверное, из-за таких нежелательных ссылок и упоминаний и запрещают многие видеофильмы, размышляю потом я.
Видео все еще редкость, лишний раз разговоров о нем не заводят. Когда появляется какой-нибудь фильм, Борис приглашает по вечерам меня и Светлану. И если кассету нужно вернуть на следующий же день, мы засиживаемся допоздна, не желая пропустить развязку. А после вместе с Борисом идем провожать Светлану до ее подъезда. Уже поздно, и мало ли что.
Однажды мы так засиживаемся до половины второго ночи. На вечер приносят две части "Крестного отца", одна длиннее другой, и оторваться от них ни у кого не хватает духа. Мы неоднократно перезваниваем домой, потому что, сколько еще будет идти лента, не знаем, отпрашиваемся, предупреждаем, чтобы не волновались. Заканчивается дело тем, что родители сами заходят забрать нас. Фильм досматриваем всем гуртом. Оказывается, моя мама уже видела его первую часть в Варшаве, когда ездила в Польшу еще в семидесятые студенческие годы. На афише было написано: "Фильм ужасов".
- Ну, до ужасов здесь далеко, - не соглашается уже искушенный в этом жанре Борис. - А вот с киргизами я бы тоже так разобрался.
6Час от часу не легче. В школах вводят киргизский язык. Говорят, теперь он будет обязательным, а потом его и вовсе признают государственным. А чем только не грозятся за его незнание! Киргизский разговор злой, быстрый, пронизывающий. У нас в багаже лишь отдельные слова, которые у всех на слуху: нан - хлеб, эт - мясо, суу - вода, сут - молоко. Всего десятка два наберется, не больше. Да и то вместе с ругательствами и надписями на вывесках, типа "Кош келениздер" - "Добро пожаловать" якобы значит.Нас, конечно, больше всего потешает название парикмахерских салонов - "Чач тарач". Мы, когда подстригаться идем, так и комментируем: "Чачу пора тарачить". Еще поговаривают, что на киргизском очень смешно звучат персонажи сказок: Змей Горыныч - "Автоген хан", Баба Яга - "Кошмар опа", Карлсон - "Шайтан вентилятор", Буратино - "Саксаул беке", а Дед Мороз - "Колотун" такой-то. Но это, скорее, так, шутки ради. Хотя черт его знает, если даже обычный велик киргизы раньше "шайтан арбой" звали. Но вот с парикмахерскими - наверняка, надписи-то повсюду.
Смех - смехом, но особо иронизировать все же что-то не тянет. Двадцать восьмой школе еще везет, у нас дело пока ограничивается обещаниями, а Борька уже корпит над чуждыми уху гортанными сочетаниями и из-под палки ведет словарь. На работе у мамы за киргизский тоже берутся основательно - организовывают, естественно, платные курсы по изучению, куда записывают всех "желающих" в добровольно-принудительной форме. В строгости еще не верят, но отказникам враз объясняют, что к чему, вызывая их на ковер к директору. В свете последних событий на его приемной висит очень забавная табличка. По-киргизски эта самая приемная теперь величается "кабыл дама". Преподаватели подтрунивают и переименовывают ее в "кабыл дам", поскольку директор - мужского пола.
Самое интересное, что и многие киргизы противятся такому насаждению родной речи. Им приходится вновь учить или вспоминать ее вместе с русскими, татарами, украинцами, немцами. Тем более что их самосознание лучше адаптируется к этой навязываемой необходимости. По значимости киргизский ставят на одну ступень с английским и даже впереди него. Ну правильно, сначала - национальный, а уж потом и мировой опыт.
Киргизский алфавит богатый. В нем аж тридцать шесть букв, так что куда здесь русскому! Правда, тридцать три из них заимствованы как раз-таки из русского языка. Но это, безусловно, "мы еще посмотрим", как надсадно выкрикивают на людных скопищах чересчур ретивые сторонники теории яйца и курицы. Разницу составляют три буквы. Одна - по произношению нечто среднее между "у" и "ю", потом носовое "н". И почти английское "О", одновременно напоминающее "о", "е" и благородную послетрапезную отрыжку, которой выражается признательность хозяевам дома после вкушения угощений. Ну а на то, что у киргизов до последнего отсутствовала письменность, закрывали глаза. Зато устная форма была до того древняя, что наша учительница по русскому, как-то потеряв терпение, набралась смелости и даже вслух удивилась, как они умудрились ее еще не забыть?
А тем временем с языком становилось все строже. Меняли вывески и надписи на ценниках, указатели и таблички с названиями улиц, которым присваивались совершенно незнакомые наименования. В магазинах демонстративно отказывались говорить и понимать по-русски, требуя, чтобы нужные товары перечисляли на киргизском языке. Немного выручало то, что некоторые слова заимствовались киргизами полностью, что поначалу делало общение более-менее сносным, хотя ты иногда и "не понимал", на каком языке, будучи нечаянным полиглотом, сейчас говоришь. Но позже переиначивались и эти заимствования, что невольно вело к путанице и неразберихе, ведь филологам постоянно приходилось вносить добавления и правки в словари и в справочные пособия, за серьезную систематизацию и издание которых и без того принимались только сейчас. А когда подобрать эквивалент не удавалось, к русским основам просто прибавлялись характерные окончания или сами слова вымучивались не по принципу прямого уточнения, а подробного описания. Скажем, не "аптека", а "магазин, где продают лекарства". Понятно, что такой подход чистоте языка не способствовал.
Ну а уж когда в начале девяностых киргизский официально признали государственным, им заполонили все. Пресса откликнулась выходом целого ряда местно-язычных газет. Республиканское издательство "Мектеп" разразилось потоком книжной продукции. Телевизионные передачи здешнего производства были и без того переориентированы. А советские фильмы с каким-то бешеным азартом стали подвергаться дубляжу. Конечно, это делалось и прежде, но не в таких масштабах. Хорошо еще, что оставались центральные телеканалы. Их глушить, видимо, не осмеливались, хотя, может, и вовсе не собирались. Так что говорить о тотальной блокаде все-таки не приходилось, что зачастую ставилось на вид русским, когда те возмущались засильем киргизского языка. Учить-то его от безысходности учили, но очень неохотно, словно веря, что еще вернутся старые времена.
7- Теперь бы и того негра с выбором языка в два счета определили, - вдруг вспоминает Уш.По киргизскому у него "пара", каждую неделю стращают неприятностями, и он очень завидует двадцать восьмой, что там еще отвертываются от изучения. Но и переходить из тринадцатой не хочет: столько лет уже проучился, и все менять.
- Да видно, и ему жилось не совсем, - продолжает размышлять он, - раз за тридевять земель от своего дома таскался. Выходит, действительно их там скинхэды сильно допекают.
Уш уже несколько месяцев читает какие-то редкие журналы на английском и много чего такого знает; отец ему их откуда-то достает.
- И что это за скинь кеды такие? - допытываемся мы.
Звучит как-то чудно, но Ушу верим.
- Хрен их разберет, - размеренно отвечает Андрей. - Но точно знаю: они для негров, как теперь для нас - киргизы.
А киргизов в городе становится все больше. Тянутся из сельской местности, переезжают, сменяя скотоводство на городскую оседлую жизнь, за бесценок забирают квартиры, а то и вообще получают их какими-то непонятными, темными способами. Русские лица в толпе приходится уже выискивать, как в игру какую играешь: заметишь их на этом пятачке квартала или нет.
На улицах разбивают юрты. Иногда прямо в самом центре, неподалеку от оживленных магистралей и базаров. В академическом дворе тоже частенько стоят одна-две, но это если праздник на носу или событие: похороны, свадьба, религиозный Нооруз. Порой юрты ставят и для приехавших погостить родственников. Сами они, как правило, из горных аулов. Вот им, вероятно, и создают все условия, чтобы чувствовали себя вольготно, как дома, и не одичали от цивилизации, догадываемся мы.
В квартирах попросторнее, рассказывают, для них специально держат пустые комнаты, где почти нет мебели и полы застелены кошмами - неткаными коврами из верблюжьей шерсти. А если всем не разместиться, возводят свои войлочные жилища: круглые и с куполком наверху. В таких случаях возле юрт ставят из глины очаги. И с утра до поздней ночи что-то на них шкворчит, распространяет мясные ароматы, в казанах готовят бараний плов, бешбармак. Плов едят руками, сев кружком; причем каждый выбирает свою дорожку к центру блюда.
За мясо признают лишь один сорт, и потому наблюдать на балконах верхних этажей топчущихся баранов уже давно не в новинку, хотя такой бесплатный зоопарк все равно приковывает к себе внимание. Будят по утрам своим отчаянным блеянием вместо деревенских петухов. Да так настойчиво и протяжно, словно наперед знают, зачем их привезли сюда накануне в багажниках легковушек. Самому почетному гостю достается бараний глаз - как растолковывают, символ мудрости и прозорливости; и получить его - признак большого уважения. Но это - традиция, и мало ли у кого они какие. Если вкусно приготовить да со специями, то, брр, допускаю мысль: почему бы и нет?
Чего мы не понимаем, так это зачем киргизы старшего поколения сидят на солнцепеке в пальто и платках. Горячий чай, еще булькающий в пиале, от жары спасает, знаем по собственному опыту. Но одеваться, как на Северный полюс, при таком пекле! Эффект, не исключено, тот же, но сами проверить это не беремся - засмеют. А то еще выкупают младенчика, вынесут его на свежий воздух, всего розовенького, и ну давай растирать по тельцу топленый бараний жир. Фу, смотреть противно, да и запах. И что это за гигиена такая?
Когда в академический дом семьи только въезжали, супруги жильцов переругались, кому по планировке ванная комната с биде достанется, а кому - без. А потом выяснилось, что чего в этих раковинах только не делали: и носки стирали, и обувь мыли, и вообще стыдно сказать. А еще над нами смеялись, что у нас в домах раньше газовые колонки стояли и из обоих кранов, если запальник не зажечь, вода только холодная текла, будто в частном секторе без удобств живем.
- Ну да это фигня, - успокаивает нас вникший Стас, - не обращайте внимания. У них по любому поводу радость позлословить, язык так и чешется. И алфавит недаром вон какой замечательный. Целых три своих собственных буквы выдумали! Да и те если откуда не стибрили.
У Стаса тоже не все гладко - проблемы с переводом на пятый курс. Внаглую объясняют, что надо подмастить взяткой, иначе на хорошие отметки и успеваемость закроют глаза и не дадут доучиться. По этой же причине Андрей из углового подъезда никак не может получить диплом об образовании - за него также нужно дорого заплатить. И с женитьбой не скажешь, что все в порядке. Живут, конечно, душа в душу, но как не заладится, так, видно, все одно к одному: кооператив, который долгие годы строили для взрослеющего сына родители, отходит какой-то шишке из органов внутренних дел. Им предлагают или успокоиться и еще неопределенный срок ждать, или забрать сразу половину выплаченных денег и успокоиться, постепенно получая дальнейший расчет. Запутанная история, но приходится терпеть. Выбыть из очереди - значит, начинать потом все по-новой.
У тети Анны Ястрижевской, дочери бабушкиной приятельницы, тоже сплошные неприятности. Ее увольняют с работы за какое-то несоответствие. Тридцать лет она проработала в университете на кафедре и "соответствовала". Но тут кому-то срочно понадобилось повышение, и она вдруг пришлась не ко двору.
С неделю назад ей, правда, повезло. Ее взяли готовить еду и прибирать в доме какой-то богатой киргизской семьи. Теперь она у них считается домохозяйкой, но выматывается так, что сама себя называет чернорабочей. А в свободное время, которого остается не так много, все равно ищет подработки, чтобы вытянуть трех своих девочек, одна милее и краше другой. Воспитывает их тетя Анна, после смерти своей матери, в одиночку. Муж ее давно погиб - его, возвращающегося с дачи на велосипеде, насмерть смял грузовик.
Как-то разом сдавшая Таня Крышина вместе с рано повзрослевшей дочерью Светланой выпутываются тем, что пекут на заказ пироги и сдобу. У них свой старый дом, и газ приходится покупать привозной. С ним перебои, и достать его можно только с переплатой, а один баллон и без того стоит очень дорого. Встают Крышины спозаранку, чтобы обойти соседей со свежей выпечкой да снести заказанное с вечера продавцам на мини-рынок к продмагу.
Сперва пирожки у тети Тани берут вяло, с незнакомого стола-то. Но поосмотревшись и попробовав, чаще уже не отказывают. Хотя если опоздаешь к назначенному времени, пусть совсем немного, или что не понравится, сразу в отказ. А то где и в другом месте перекусят. И хлопотно угождать всем, и заработок - ненадежный.
8Нам с мамой довелось побывать в Вологде за год до переезда. В восемьдесят девятом мне выпала возможность отправиться на соревнования по теннису в Бухару и Самарканд. Я по-прежнему усиленно занимался и в один из спортивных сезонов, кажется, даже был назван четвертой ракеткой республики (конечно, среди своего года). Но вместо того чтобы отпустить меня на штурм кортов Узбекистана, мама предложила съездить почти за четыре тысячи километров, в далекий неизвестный город. К тому времени она начала говорить, что мы можем попробовать туда перебраться. Понятно, что знать об этом хотелось бы определеннее, но выбраться из Киргизии стало уже до того сложно, что приходилось довольствоваться и такими смутными догадками, пока далекими даже от каких-то надежд.Это громко звучит, но в Вологде раньше был и я. Более того, я там родился и прожил первые три месяца своей жизни, пока мама не вернулась со мной обратно во Фрунзе. После окончания петрозаводского филиала Ленинградской консерватории она попала по распределению в Вологду, несколько лет проработала в этом городе в областном музыкальном училище, вышла замуж и развелась.
О ее разводе я узнаю за несколько дней до нашего путешествия. Раньше мне говорили, что отец умер, но оказывается, он жив и здоров, и семья у него - новая. Просто теперь я уже взрослый парень и мне пора об этом знать. Тем более что кто-нибудь из прежнего окружения мамы может случайно проговориться, обронить в разговоре ненароком что-то лишнее и мне непонятное.
Мама показывает свою свадебную фотографию. Я молча рассматриваю ее. Конечно, интересно, ведь это - моя мама. А кто второй человек, я не знаю до сих пор да и знать не хочу. Потом я достаю из шкафа медаль "Родившемуся на Вологодской земле". Такие чеканили чуть ли не в тот лишь самый, семьдесят седьмой, единственный год. Кого ни спрошу, никто о таких знаках отличия ни разу не слышал. В других краях России - еще ладно; может, только здесь "награждать" было принято. Но даже и у моих вологодских сверстников таких необычных медалей почему-то нет. Я специально, правда, у всех не выяснял, но кому ни расскажу - удивляются, пожимают плечами, а покажешь - так даже вроде завидуют. Сама медаль массивная, рельефная, в прозрачную пластиковую коробочку запаяна, и солнце с ребенком, протягивающим к нему руки, изображены, а с другой стороны - про меня надпись, что, мол, есть такой, но ее уж по специальному заказу выводили.
Многое из того, что делается, наверное, действительно делается к лучшему. И иногда это становится понятно, как мне это понятно теперь. Но в то лето, уже после поездки, я все же немного жалел о сорвавшихся соревнованиях. Да и, слухами земля полнится, Бухара и Самарканд - жемчужины Востока, красивые города.
- А Вологда что же, некрасивая? - раздраженно спрашивает Борис.
И я его понимаю. Если бы я узнал, что пусть и не скоро, но все-таки возможен его отъезд, я бы тоже вряд ли спокойно примирился с этой мыслью. Минимум еще год впереди, но в конце концов все идет к тому и наш переезд - дело времени. Маму еще помнят по работе, специалисты в Вологде пока нужны, и даже с переводом и возмещением расходов по транспортировке грузовых контейнеров обещают постараться помочь. Во все это не верится, кажется сказкой, иллюзией, мечтой. Но теперь окружающее начинаешь воспринимать еще болезненнее. И мама себе места не находит, потому что здесь останется все, что так или иначе было связано с ней более сорока лет. Остаются друзья и близкая родня, остается могила ее матери и моей бабушки. Господи, до чего все это тошно и тоскливо, хоть волком вой, кто бы знал...
- Почему же, красивая, - пересиливаю себя я.
Да и при чем здесь красота? Когда во Фрунзе все близко и знакомо, а там - чуждо и, наверное, поэтому неприятно. Прогулки по каким-то серым, неприметным улочкам. Вереницы не запоминающихся мной, как я ни пытаюсь удержать их или оживить в памяти, встреч. Пожимания рук и приглашения в гости, бурные восклицания: "Ах, чей это такой мальчик?!" - и в ответ сердитое бурчание себе под нос: "Не беспокойтесь, не ваш".
- А еще очень старинная, - продолжаю я.
И не то чтобы сочиняю или даже вру. Но в то же время думаю, что поступаю и не совсем честно, потому что, будь воля, расписал бы все Борьке иначе. Но лишний раз напоминать и себе, и другу о том, что все происходит далеко не так, как бы вообще хотелось, не хватает ни выдержки, ни мужества. Да и что изменят эти разговоры? Только разбередят. Или отказаться от возможности переезда и позже долго жалеть о своем решении, или все же решиться и жалеть уже о переезде, но потом. Выбора все равно нет.
- Старше Москвы даже, и это только по летописи. А еще церквей много. Когда на реку выходишь, от позолоты маковок по обеим Набережным глаза так и слепит. Да только действующих приходов - всего ничего. То разрушены, то в склады переделаны или овощебазы.
Борис внимательно слушает, слегка поеживаясь от вечерней прохлады. Уже темнеет, и чтобы не привлекать к себе лишнего внимания в этот поздний и потому особо опасный час, мы сидим под самым потолком беседки, где по углам крест-накрест наколочены доски.
- А еще в Вологду чуть столицу не перенесли. Сам Иван Грозный собирался, - пытаюсь я растормошить Борьку.
- Чуть не считается, - вновь настропаляется он. - Тоже мне, Нью-Васюки! Что же не перенесли-то?
А-а, все-таки, выходит, зацепил!
- Да поговаривают, при строительстве не то Софийского собора, не то самого Кремля перед царем кирпич с лесов шандарахнулся. Вот он и разозлился, что едва не пришибли, а свое решение - отменил.
- Ну и фиг с ним, - говорит Борис. - Перенес бы столицу в вашу Вологду, так ты бы сейчас в Москву намыливался. Хрен редьки не слаще.
- Столицу - не столицу, а кое-что, экскурсовод рассказывала, Иоанн в Вологде, кажется, все же припрятал, - опять отвлекаю я друга. - Библиотеку свою знаменитую где-то зарыл. Так Соборную горку в центре города уже несколько раз перелопачивали.
- Нашли? - почти равнодушно спрашивает Борис, прекрасно зная, что я отвечу на это.
И я признаюсь, также понимая, что подобный ответ будет ему не столь интересен:
- Нет.
Отчасти это тоже не лишено тайны, но только отчасти.
- Это ничего, - деланно утешает Борька. - Аскерушка вон под автоматами с газировкой рылся, тоже ничего не наскреб. А соревнования, - внезапно становится он более-менее серьезным, - так ты же в Алма-Ате выступал, в городе Отца каких-то яблок. Так почему бы тебе вместо стенаний о минаретах Бухары не вспоминать то, что ты взбирался на один из самых высокогорных катков мира - "Медео".
И он, и я понимаем, что дело-то не в теннисе и не в упущенных партиях. Но за этим разговором мы стараемся хотя бы на время отвлечься от мысли о нашем грядущем расставании. Поэтому я делаю вид, что легко принимаю его слова.
- Ты прав, - говорю я. - Только жаль, что я не запомнил, сколько ступеней ведет к обзорной площадке. А ведь три раза считал и перепроверял, чтоб не сбиться. К самой дамбе, что все горное ущелье перегораживает, поднимался. Триста с чем-то, что ли? Или нет, путаю... Хотя ладно, все равно не вспомню.
- А даже если и вспомнишь, ну никак не больше, чем на Потемкинской лестнице, - уверенно заявляет Борис, и тон - как у Ворошиловского знатока, чьи слова почти не подлежат сомнению.
Откуда что берется? В Одессе он гостил у своей тети месяц от силы, а чувство гордости - пойди-ка подступись!
- Не больше, - соглашаюсь я.
Уже поздно, но расходиться не хочется. И мы продолжаем свой неспешный разговор, словно только теперь научились вслушиваться в слова друг друга; да так, что многое становится понятным и без слов.
9Раскаленная от зноя площадь перед кинотеатром "Ала-Тоо" запружена народом. В центре расступившейся толпы, колышущейся и нетерпеливо переливающейся, точно барашки набегающей на берег иссык-кульской волны, - старуха. Взоры обращены к ней, настала ее очередь говорить.- Русские нам помогли, - разносится кашляющий, под стать царящему суховею, голос чон-апы, как уважительно обращаются к женщинам в возрасте. - Они поднимали нашу республику, трудились вместе с нами, строили дома и больницы, делили невзгоды и радости. Почему не жить в мире? Чуйская долина большая, простора под нашим жарким солнцем хватит всем. Одумайтесь, ведь нам не из-за чего враждовать и подниматься друг против друга!
Большинство городских киргизов старшего поколения, успевшие, что называется, обрусеть, противились межнациональной распре. Аксакалам действительно нечего было делить с русскими, с которыми они уже успели породниться: как в переносном, так и в прямом смыслах - смешанные браки раньше не были редкостью.
- Плохие люди есть среди каждого народа, - вещает чон-апа. - Нельзя говорить за всех сразу. Но рознь еще никого не доводила до добра. Не доведет и нас. Мир нельзя строить на крови. Кровью можно только сеять ненависть и вражду.
Ее слова тонули в заглушающем, сметающем полном бесшабашности гиканье. Несмотря на почитание старших, старуху втащили обратно в толпу, закрутили, оттеснили. Казалось, то, что она говорила, не отозвалось ни в одном сердце, не отразилось ни на одном лице. Молодежь ждала уже не уговоров и воззваний к здравому смыслу, ее интересовали не просьбы и мольбы. Время слов минуло. Попытки обойтись человеческим путем оказались тщетны. Несправедливыми выкриками оголтелой толпы из людской памяти начисто вымарывались тяготы и беды, выстоянные вместе. В огульных обвинениях захлебывались и тонули отношения добрососедства, если не дружбы, казалось, уже проверенные самой жизнью.
10- Если бы мы все объединились против выживания и позорных унижений, не двинулись с места, нас бы никакие киргизы не одолели, - примерно такие слова спустя много лет скажет мне директор нашего районного Дворца культуры.В один из приездов я загляну сюда, чтобы пройти по спускающемуся к полотну экрана залу, куда мы бегали мальчишками на сеансы по десять - пятнадцать копеек за билет, и совершенно случайно разговорюсь о житье-бытье с незнакомой мне женщиной. И я внезапно пойму, как справедливы эти сказанные ею слова.
За годы раздора пределы республики покинула десятая часть ее населения - четыреста двадцать тысяч человек, из которых, не найдя себе крова и приюта, рискнула вернуться всего треть; причем считая вместе с вновь прибывшими. Да и то большинство решилось на такой шаг из-за отчаяния и неумения обустроиться на новом месте, лишиться привычного уклада жизни. Другое дело, что последние годы, от месяца к месяцу, эта жизнь все больше походила на жалкое существование, русские превратились в некий бесправный придаток к пробудившейся от "порабощения" нации детей вольных гор. Да и как можно было вернуться со спокойным сердцем в раздираемые распрями земли, если в свое время только в Оше, городе к югу от Фрунзе, за три дня вырезали около четырехсот человек?
"Представляешь, Борис, - уже сейчас пишу ему я, - в январе 1999 года в Оше объявили сбор средств на установку мемориала памяти лидеров басмаческих движений".
Это не укладывается в голове.
Зато многие говорят, что им и без того с самого начала, а уж теперь и подавно, понятно, почему столицу Киргизии переименовали. И дело, по их мнениям, вовсе не в том, что местным жителям стало вдруг невмоготу выговаривать фамилию родившегося здесь полководца, вместо которой у них выходило "Пурунзе" или "Боронзо". Не в самой ли деятельности Михаила Васильевича, который этих басмачей и бил, крылась причина? Конечно, новое название - Бишкек - созвучно исконному - Пишпек, но и его возвращать почему-то не захотели.
Впрочем, не обходится и без абсурда. Самые стойкие противники перемен даже высказывают предположение, что на "Пишпек" наложен запрет, потому что видный военный деятель появился на свет в местечке с таким названием. А ненависть к нему до того велика, что стараются избегать любых упоминаний о нем. Из истории же ясно одно: в честь полководца пресловутый населенный пункт был лишь в 1926-м, спустя год после его смерти.
Но всего этого мы с Борисом тогда не знаем и не хотим знать. На дворе по-прежнему стоит конец восьмидесятых, и мы который вечер прячемся под потолком чуть накренившейся беседки. Это мы так "гуляем", прямо как раньше Олегова прабабушка на балконе.
- Раньше у Вологды, по преданиям, тоже другое название было, - продолжаю "отчитываться" я о поездке, если вспомню что интересное. - Насон-град. Правда, со сном это, по-моему, никак не связано. Гид объясняла, что в древности город стоял на пересечении торговых путей, и люди со всех округ тащили волоком и несли сюда свои товары на продажу. Так вот, из-за таких "наносов" и пошло название Насон.
Так это или иначе, никто наверняка уже не скажет. А что в переводе означает Бишкек, язык не поворачивается сказать: мутовка для взбития кумыса.
- А еще в Вологде...
И мы возвращаемся к храмам, так непохожим на одинокую стрелу мусульманской мечети.
Воскресный день уже на излете. Завтра наступит новая неделя, и будничные вечера уже в который раз предопределят нам совсем иное занятие.
Разбившись оставшейся дворовой компанией на группки по двое-трое, мы опять отправимся в разные от двора стороны встречать с работы своих матерей. Неизвестно, на что будем способны мы, девяти-, тринадцатилетние юнцы, притаившиеся в темных кронах деревьев. Но наши легонькие курточки все равно скрывают обернутые мешковиной кухонные ножи с широкими отточенными лезвиями, предназначенными для разделки мяса. Наверное, мы вряд ли берем их с собой просто так. Однако в нашем окружении нет ни одного человека, кто бы не догадался лишний раз поблагодарить судьбу за то, что ему не пришлось проверять это на деле.
11Каныбек Алмазович Турабеков, дед Аскера, натравил-таки на нас интернатских. Занимая в этом располагающемся неподалеку спецучреждении заметную должность, он уже давно предлагал и мне, и парням из компании подраться с его воспитанниками. С пугающей настойчивостью, под смешок, обещал привести к нам во двор джигитов пятнадцать, чтобы, видимо, перепало - так всем. Будучи наслышаны о его бойцовском самодурстве, мы все же не знали, как относиться к таким предложениям: со скучающей улыбкой в тон его не сползающим с лица ухмылкам, с настороженностью, балансирующей на грани загнанности, или со сдержанной снисходительностью, принимая во внимание преклонный возраст Турабекова-старшего?Погромный рейд по нашему двору интернатскими уже проводился. Толпа человек в тридцать, вооружившись палками, пронеслась, круша плитку бассейна, ломая скамейки, обкладывая матом с ног до головы пенсионеров-шахматистов и обдирая с фруктовых деревьев яблоки и груши. Мелкое пакостничество, которое могло бы закончиться совсем по-другому, если бы мы вовремя не засекли их приближение и не разогнали по домам малышню, успев смотаться сами. Иначе бы досталось всем без разбора по первое число.
Старика Каныя никто и не посмел осудить. Доказательств не было, а наши слова на веру приняли единицы. Семья Турабековых жила во дворе с самого заселения дома в 1956 году, и поэтому их давно считали своими. "Такого коленца, - по выражению сухопарого домкома Коцерубы, - Турабеков выкинуть не мог". С Коцерубой многие считались, к его словам зачастую относились как к последней истине.
Но мы и так знали, что нам не поверят. Самовыбранного наместника жилищно-эксплуатационной конторы Коцерубу всегда раздражали костры и печение картошки, беготня, прятки и "художественное черчение" на асфальте, стреляные гильзы, "чеканбеш"-камни. А упустить возможность наперчить нам и отплатить, как он считал, той же монетой было не в правилах злопамятного активиста.
Короче, нам это только обернулось боком. Не добившись результата, Каный еще пуще возжелал травли, которая на этот раз, вероятно, казалась ему всего лишь праведным возмездием. Он не ожидал, что мы осмелимся показать зубы и попытаемся противостоять вынашиваемым им планам. Теперь орудием был выбран собственный внук. Турабеков правильно рассчитал: никто из нас не ожидает подвоха от Аскера. Да тот и действительно был не при делах, еле разобравшись в случившемся только потом, когда ему все втемяшили на пальцах.
А началось все с того, что с утра пораньше он обошел каждого из нас, предложив разбить с его знакомыми несколько партий в бараньи костяшки. Но когда мы собрались, выяснилось, что игры не получится - силы игроков неравны. Подоспевшее с разных сторон подкрепление превосходило нас численностью раза в три.
Половина наших подалась влево, в массив одноэтажек с узкими кривыми переулками и коварными лабиринтами, заканчивающимися тупиками, где почти всех переловили. А часть - направо, через сквер, по иронии судьбы - на территорию самого интерната. За его ограду при любом другом раскладе никто бы не сунулся, но за нами гнались по пятам, и выбирать не приходилось. Хорошо еще, что Борис не любил играть в альчики.
У меня своя кривая. Я бегу, задыхаясь и морщась от колик в животе, словно туда всаживает тупую иглу медсестра-практикантка. Она до того неопытна, что раз за разом, как назло, норовит попасть в одну и ту же ранку. И когда это становится невыносимо, я подбегаю к мужчине. Он киргиз, но он - взрослый. Впопыхах объясняю ему, что стряслось, и прошу проводить меня хоть немного, буквально пролет меж улиц. А там, собрав последние силы, я, может быть, еще успею долететь до двора, дома, квартиры на втором этаже и, сдергивая с шеи шнурок, на котором болтается ключ, заскочить в прихожую, захлопнув за собой дверь.
Но он торопится и лишь советует мне пересечь интернат. Можно подумать, сам бы я не догадался, не возвращаться же! Значит, дальше придется чесать через Костовое поле к железнодорожному полотну, огибать пивбазу и, еще порядком проволоча ноги, вернуться в свою часть города по мосту, что ближе к стадиону. Маршрут в голове выстраивается сам. Что ж, получается солидный крюк, но если не мешкать, то есть и преимущество. По крайней мере во двор можно попытаться проскользнуть незамеченным.
Ворота заперты, и поэтому я останавливаюсь у забора с пиками. Поговаривают, что на их остриях истекала кровью не одна неуклюжая задница. Оглядываюсь. Мужчина, будто так и надо, тычет пальцем в мою сторону и что-то объясняет подбежавшим к нему преследователям. Он, конечно, взрослый, но он - киргиз. Человек восемь, прикидываю я. Других не знаю, а Анвар и Сейтек - одноклассники, еще с самого первого звонка. Но в тот момент меня почему-то не удивляет, как они оказались в компании интернатских. Сейчас главная цель - оторваться.
Через ограду я перебираюсь раньше. Это дает мне определенную фору. Но Костовое поле, названное так потому, что здесь часто режут и разделывают баранов, - довольно внушительный открытый пустырь, затаиться на котором нужна еще та сноровка. Мне ее будто не занимать. Дальше еще можно попробовать затеряться в штабелях строительных блоков и списанных рельсов у заброшенного депо. Но чтобы попытаться это сделать, чтобы потом добраться до Московской, 152, квартиры 5, нужно успеть преодолеть сакральное пространство - поле.
Домой я тогда так и не попадаю. Не попадаю туда и в ближайшие две недели. Хотя не пойму, почему меня, уже загипсованного, нельзя было отпустить восвояси сразу же?
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
СТЕКОЛЬНЫЙ ПОГРОМ1А что я скажу Борису сейчас? Что скажет он мне? Мы не виделись уже много лет, последний раз - в девяносто третьем. Тремя годами раньше мы все же переехали в Вологду, сумев попасть в последнюю волну массовой миграции. И нам завидовал весь двор, потому что кто мог уехать - это уже сделал или непременно собирался сделать в самое ближайшее время. Всякое промедление и откладывание было подобно засасывающей трясине: чтобы хоть как-то ограничить отток русских специалистов, власти грозились ввести дичайший налог с квартирных операций, а жилье и без того уходило за половинную стоимость. Начинать новую жизнь на голом месте с грошом в кармане нечего было и думать.Тремя годами позже нас семья Бориса уехала в Австралию: штат Виктория, город Мельбурн, район Илвуд. И им уже завидовали бы все, кто мог, но по понятной причине об этом не знали лишь избранные единицы. Риск был настолько велик, что налет на квартиру, просочись информация, казался бы неминуем. Избивали из-за копеек, а здесь вращалась такая сумма!
На переезд Миропольские собирали всем миром. Продали дом, оставшийся в наследство от родственницы в Оше, свою трехкомнатную квартиру, дачу с огромным садом, машину, безумно ценившееся в то время видео и много чего прочего; помогла родня из Одессы. Без родственников за границей - в США, Канаде, Израиле и Австралии, - видимо, тоже не обошлось. Борис еще говорил, что перед ними даже стоял выбор, в какую из стран переезжать? Что ж, если вы до сих пор не в курсе, Австралия - самое то.
Первые годы я пишу Борису гораздо чаще, чем он отправляет свои конверты на мой адрес в общаге или, уже позже, в Тополевом переулке. Хотя писать письма ужасно не люблю. Живое общение, пусть и по телефону, рядом не стоит с односторонним потоком строчек, которые, еще неизвестно, дойдут ли до адресата? Тем не менее пару лет после нашего переезда доходило до того, что целыми месяцами я посылал ему письма по два-три раза на неделе.
Сразу после эмиграции Борис тоже отвечал довольно регулярно. Повышенная потребность в общении после столь значительного поступка, наверное, появляется у каждого. Но, может, со временем он и стал писать все реже и реже, чтобы не касаться лишний раз того, как все было до разъезда, и не давать затягивать себя в ностальгию. Вы сами понимаете, мне удобнее думать именно так, нежели отгонять прочь мысль, что с годами он просто забывает меня, фрунзенский двор и наше детство, проведенное вместе на улице Московской.
2Дважды мы с ним уже созванивались. Все эти телефонные приготовления - целая эпопея. Своего аппарата у меня нет: кабель протянут "воздушкой" и дом считается нетелефонизированным, хотя, что самое непонятное, три номера в нем все-таки есть. Но все ячейки заняты, а пускать на блокиратор - нема дурных соседей. Это раньше без всякого разрешения с их стороны подсоединить могли, во Фрунзе так бывало. Но мои тополевцы и без того между собой чем только не запараллелены. Поэтому сообщаю Борису номер телефона наших с мамой друзей, семьи Козырь.Приготовления к телефонным переговорам еще те. Сначала я пишу Борису, что в определенное время с ориентиром на московский часовой пояс жду его звонка. Срок - месяца за два, лучше предупредить заранее, неизвестно, сколько будет ползти почтальон с конвертом. К тому же сами работники отделений просят выводить на посланиях слово "Австралия" не только по-английски, но и по-русски. По их заверениям, иногда происходит путаница с Австрией. Сиамские близнецы прямо мне тоже! В таких случаях я думаю: хорошо, что Борис не переехал в Антарктиду. Ищи потом свое письмо где-то между Антарктикой и Атлантидой, размахивая квитком уведомления. Письма австралийскому другу я обычно как раз с уведомлением и отправляю. Приятно знать наверняка, получая открытку с его корявой подписью, что он - в курсе. Тогда главным становится не забыть назначенного срока и отменить все дела, даже если они чрезвычайно важны и неотложны. Не говоря уже о том, что все свои планы вынуждены свести насмарку и наши друзья, и сам Борис.
Я всегда прихожу к Козырям раньше срока. Скорее всего это ни к чему. Но черт его знает, как Борис высчитает временную разницу австралийского и московского поясов. Хотя, если что, ему там любой связист, что твои семечки щелкать, растолкует. Не то что у нас:
- Девушка, а когда письмо, хотя бы примерно, дойдет?
- А я почем знаю?!
- Ну, вообще-то дойдет?
- Ну а я почем знаю?! Ходют тут всякие.
Подстраховаться - вернее будет. Поспешишь - людей насмешишь. Вот мы лучше уж потихоньку и сподобимся.
Стрелки настенных ходиков, как всегда, забегают вперед. Минут на пять точно. Значит, полчаса в запасе еще есть. Но, может, было бы легче, если бы их не было вовсе. Чудак-человек, скажете. Так и приходил бы ко времени. Да только тяжело это, не дай Бог, конечно, потерять друзей. Одного во Фрунзе, другого на далеком материке, которого, говорят, и нет в помине, а третьего, окровавленного, в туалете пьяной вологодской дискотеки. Как там у Ремарка? Ты должен обзавестись по меньшей мере двумя десятками друзей, чтобы после в живых остался хоть кто-нибудь из них. Совсем не дословно, но не обессудьте.
Эти полчаса изматывают полностью. Поминутные взгляды на часы со сфокусированным на миг в глазах вниманием перемежаются отрешенной улыбкой в предвкушении разговора и полным разбродом мыслей: а как, а что, а он, а я? Приедет ли? И если да, то когда? А если нет, то почему? Да что приедет... Позвонил бы! Ведь если нет, то когда теперь? И по-новой. И проч.
И еще. Почему на память уже в третий раз, по числу ожиданий звонков за эти семь лет, опять приходит тот стекольный погром, как его окрестили в нашем дворе на Московской?
3Мы лежим, прикрыв головы руками, на усеянном осколками ковре, под крышкой письменного стола, что остается, пожалуй, единственной надежной защитой в напрочь разгромленной комнате. В два зияющих оконных проема, ощерившихся по краям острыми зубьями стекол, сквозь зелень ветвей и гроздья распустившихся акаций врываются камни. Разбивая вдребезги оставшиеся стекла, они крушат спальню: створки книжного шкафа, обрамленную фотографию бабушки. Они оставляют на полировке фортепиано растрескавшиеся вмятины, что тут же распускают по инструменту свою паутину.Такого еще не бывало. Стекольщика вызывать, разумеется, приходилось, но чтоб погром... Самое непостижимое в те моменты, когда я приподнимаю голову: почему цела форточка на окне во двор? Ее стекло лопнуло еще несколько лет назад, но до сих пор держится в скобах одному ему известным способом. До замены никак не доходят руки. А сейчас все расколочено, по форточке, словно заговоренной, хоть бы хны.
- Орус, орус, менен сеген! - в комнату врывается полный злобы крик.
- Что? Что они кричат? - спрашивает Борис, прижимаясь ко мне.
- Кричат, что мы - русские.
- А еще? Что они кричат еще?
- А еще кричат про матерей.
- Про наших с тобой? Про твою и мою? - продолжает допытываться он, напряженно вглядываясь в мое лицо.
- Нет, - говорю я, пригибая его голову к ковру и стараясь подобрать слова. - Про своих. Они у них ведь тоже есть.
В выкрики беснующихся вклинивается звон разбиваемых окон в других квартирах, на всех трех обстреливаемых этажах. Булыжников под ногами хватает, рассчитывать на лимит "боеприпасов" нечего.
- А что они кричат про своих матерей?
Киргизский в школе он еще не проходит, но и так понятно, что нам выкрикивают совсем не поздравления и не пожелания добра. Тем более что и это, и многое другое приходится слышать в свой адрес практически ежедневно.
- Они жалуются, что те родили их на свет, - отвечаю я. - Эти чурки, наверное, просто не догадываются, что их слова на русский переводятся как ругательство.
Несмотря на воцарившееся сумасшествие, лежать за письменным столом довольно спокойно. На улице если не камнем, то палкой или хлестким стручком Адамова дерева тебе по лицу или по спине обязательно перепадет, за день иногда и не раз. Теперь приходится выбирать меньшее из двух зол, и делать это день ото дня становится все труднее. Затворничество невозможно, а стоит переступить порог родной квартиры, как за ним сразу же начинается передовая. Причем действия ведутся по принципу: семеро на одного.
От такого расклада еще более омерзительными выглядят потуги нападающих на благородство. Остановленному на улице русскому парню с видом одолжения предлагают драться "по-честному, до крови, ты и я". И чтобы совсем не пасть в своих глазах и не доставить пущей радости случайным линчевателям, вызов приходится принимать. Хотя каждому попавшемуся наперед известно: все по-честному, без обмана - разве что у волшебника Сулеймана, а самому в лучшем случае ходить теперь с переломанным носом. Даже если и удастся справиться с первым, на смену побежденному тут же придет второй, четвертый, пятый. И так до тех пор, пока тебя не собьют с ног и не запинают уже всем бравым скопом. А что делать, если один на всех и все на одного? Кодекс чести, как от ударов ни уворачивайся, соблюдать надо!
* * *
Да что говорить!
Намедни по просьбе родителей Борис отправился в сквер Тоголока Молдо навестить отдыхающую там на скамеечке бабушку и заодно захватил ей свежую газету. Никаких волнений эта просьба не вызвала, но скрученную "Правду" он так и не донес. А вернулся домой без своих новеньких часов на пластиковом ремешке и с расквашенным носом. Зато без слез и с газетой, которая никакой конкуренции отобранному не составила. А ведь проведать бабушку было делом всего нескольких минут: зеленый массив имени знатного акына-сказителя простирался сразу за проезжей частью улицы Калыка Акиева.
В прошлый раз ему досталось вообще ни за что. Били из-за девяти копеек, отложенных на фруктовый шербет, и значка, сорванного-таки с футболки. После этого восьмилетний тогда пацан понял одно: если уж норовят дать в зубы за пару медяков, то к уличным приставаниям необходимо быть готовым постоянно. У тебя всегда найдется при себе что-либо, оцениваемое в девять копеек или в другую столь же безумную сумму. Вот тебе и вся правда.
Поэтому обычно я, будучи чуть старше, составляю ему компанию: сходить к прохладным боксам пивбазы за цветными пробками от чешских "Окоцимов" или "Малиновых дедов" в булочную за присыпками. Несмотря на дневное время, я тоже чувствую себя неспокойно. Но вида не подаю; точнее, стараюсь не подавать, я - старше. Хотя почти не сомневаюсь, что блеск в глазах и частые оглядки, переходящие уже в привычку поминутно озираться, конечно, выдают меня, и иногда с головой. Но удариться в панику проще всего. А какого-либо выхода чувство затравленности не дает.
4Из кухни меня вырывает телефонный звонок. Сорвавшись, несусь в комнату.- Да, алло! Борис?! Борис, алло! Тьфу ты, черт! Борис! Алло!
В спешке я забываю приподнять западающий рычажок, но это, когда напоминают, все равно ничего не дает. Ошиблись номером. Пятилетняя Даша, дочь Козырей, еще не разобравшись, что не туда попали, теребит ручонкой телефонный провод и, заглядывая в глаза, спрашивает:
- Это Австралия говорит?
- Вы ошиблись номером.
- Австралия, Антоша? Австралия? Если Австралия, то пусть они нам долларов пришлют, хоть немного.
Стыдно признаться, но иногда я ловлю себя на мысли, что действительно готов решиться на этот отчаянный шаг. Но не по отношению к Борису, тем более что он еще не оперился и не встал на ноги сам, а вообще, в принципе, внутренне, для себя. Но я постараюсь этого не делать, мне и так неловко - каждый раз, рассказывая в письмах какие-то новости, как всегда, не отличающиеся особым оптимизмом, я опасаюсь: Борис еще может подумать, что я жалуюсь и чего-то, намекая, прошу.
Сытый голодного не разумеет - это точно. И маминой приятельнице по фрунзенскому музучилищу Куренкеевой, перебравшейся в Германию, много проще, скитаясь по собственному дому и постоянно отдыхая в разных частях света, время от времени писать, что в трудный для России час мысленно она с нами и прекрасно понимает, как нелегко приходится в разваливающемся или уже в развалившемся государстве. А после таких выражений солидарности бесхитростно признается, что-де поездка в Париж на автомобиле была чересчур утомительной. Или что от преподнесенного ей местным издательством компьютера (от безделья она начала "складывать и публиковать вирши") у нее раскалывается голова.
Вот позиция Бориса в этом вопросе мне импонирует. Ни разу он, как и я ему, не написал (хотя в двух "секретных" от него письмах его мама, тетя Лина, признавалась, что он переживал и поначалу порывался обратно), что их семья, скажем, стенает и клянет на чем свет стоит скачущих тут и сям кенгуру, тщетно выглядывая в окошко белый ситец березонек-невест. Переехал - так переехал. Ну что делать, если обстоятельства и сама жизнь так сложились? Вот, изволь, и будь мужественен. А то переберутся, впадут в прострацию, перекушамши материальных благ, и ну давай ныть, что души у них там никто не приемлет да не понимает. А коснись практики - все чаще на поверку блеф и пустая трескотня.
5Наши контейнеры доставляли в Вологду-Сырьевую, видимо, ракетой. Через четыре дня нашей тряски на поезде с пересадкой в Москве он уже ждет нас на товарной станции по месту назначения. Слухи о том, что составы формируют по направлениям, не особо с ними валдахаясь и пуская их под горку, оправданны. Диван раздавлен и сплющен. У книжных шкафов проломлены дверцы, крепления выворочены из пазов и пробиты деки. В таком духе все, хотя упаковывать вещи нам помогали люди знающие, у которых опыт перебазирований за плечами.Скарб и общага - вот с чем остаемся мы в течение нескольких лет, потеряв круг общения и лишившись всего того, что составляет устроенность, быт и саму прежнюю жизнь, сменить которую, наверное, еще можно сравнительно безболезненно, когда тебе лет пять. Но никак не больше десяти и не в районе сорока, сколько, не вдаваясь в подробности, было в ту пору нашим родителям.
Но зато над головой есть крыша. А вещи какие-никакие удалось вывезти. Правда, не все. Но спасибо и на этом. Давка за грузовыми контейнерами была безумна. Манштейны прособирались и теперь жалеют, что не перепустили очередь, хотя они еще никак не могут прийти к окончательному решению. Мы же томимся в ожидании больше полугода, да и выбить удается всего две трехтонки. Так вроде куда больше? А начинаешь прикидывать и промерять с учетом уже давно всем известных параметров железных ящиков - откуда что берется! Благо водитель, душа-пьяница-человек, когда дошло до погрузки, перепутал накладные и вместо второй привез пятитонку. За деньги и за водку он соглашается не увозить ее обратно, закрыв глаза на эту "досадную" оплошность.
Контейнерщики теперь люди большие, не тебе, так другим обязательно пригодятся. Вот и шабашат на каждом углу, и чтоб связи с ними заводили и блат какой - очень даже предрасположены, сторицей им откликнется. А мы такому повороту тогда только рады. Значит, можно срочно забрать из комиссионки, что в ганкинском доме, сервант и тумбочку под пластинки, она ведь у нас как родная: старенькая, конечно, но испокон верой и правдой служит.
Только из-за этих сплошных клубков знакомств на металлобазах многим, если средства не позволяют, контейнеров себе уже не достать. Это нам повезло опять же. Поэтому некоторые семьи в складчину покупают списанные полуразбитые вагоны, уже отслужившие свое и давно сошедшие с рельсов. Одни проводят капремонт, другие восстанавливают их почти заново. И когда таких "домиков" набирается достаточно, нанимают тепловоз.
Чего только не рассказывают об этих железнодорожных караванах! Сразу за Пишпеком (станция с таким названием оставалась) их загоняют в тупик и начинают выбивать мзду по-новой. Обыскивают, перетряхивают, роются в вещах, забирая понравившееся. Нет денег - выносят часть мебели, нечем откупиться - присваивают белье, одежду, посуду. Всю технику изымают, нагло прикрываясь инструкциями и мерами пожарной безопасности. Плитки и чугунки, положим, еще куда ни шло, хотя теперь людям будет не на чем готовить в долгой дороге горячую еду. Но при чем здесь телевизоры и проигрыватели, стиральные машины и пылесосы? Но ничего не поделаешь, ехать дальше нужно в любом случае.
А там, по следованию состава, на безлюдных степных просторах вообще творится мрак. Возрождается басмачество. И опять, как в начале столетия, совершаются налеты и ограбления. Только теперь нагоняют не на быстрых скакунах, а, отдавая дань цивилизации, на легковых автомашинах с маячащими на кордоне грузовыми, чтобы было куда вынести подчистую оставшееся. Происходят вооруженные столкновения. Люди пытаются дать отпор. Но чаще всего, когда дело доходит до возможной расправы и угроза касается близких, мародерам уступают во всем.
6Еще Борис пишет, что у него все хорошо. Одно время он немного поработал и купил на полученные деньги компьютер. Садился по утрам на велик за шестьсот сорок долларов и крутил педали, зашвыривая на газоны перед домами почту. Я думал, это только в кино так обслуживают. Оказывается, нет. Борису я, конечно, верю, но кое-что мне все-таки непонятно. Частная собственность на то и частная, чтобы по ней никто не шастал, даже почтальоны. Но если газеты шлепнутся в лужу или в грязь? Их не то что читать, в руки брать не захочется. Однако в такие тонкости ремесла Борис не вдается. Поэтому я просто отвечаю ему, что тоже сумел наскрести денег на ремонт своей старой механической машинки. Недавно у меня, правда, появилась еще одна, от сети, но она пока не фурычит.Да только пишу я уже не Борьке Миропольскому, а м-ру Шерману. И я верю, что - мистеру. Потому что когда у них отменили один из рейсов вечерней электрички (хотя она наверняка называется там как-то по-другому), железнодорожная компания развезла за свой счет на такси всех пассажиров, даже если те еще не успели приобрести билеты. А иначе не уехавшие на электричке австралийцы могли подать на компанию в суд исковые заявления о компенсации морального вреда. Подумать только, до чего они там дожили!
Он вообще много чего интересного пишет, мой Борис. Например, я знаю, что в Сиднее только что отгрохали самое здоровенное казино, этакую игорную империю, обошедшуюся в три миллиарда долларов, пусть, может, и австралийских. Такой баснословной суммы я все равно не понимаю. Но мне почему-то приятно, что я единственный во всей Вологде знаю об этом, словно сам иногда коротаю за игральным столом выходные, дуясь в "Оазис стад покер" и благодушно соглашаясь с тем, что при решении спорных вопросов предпочтение отдается клиенту, а не менеджменту заведения. Вот такая вот тайна.
7Стук. Нетерпеливый, раздраженный, бередящий. Такой раздается, когда не работает звонок, потому что в трансформаторной будке на нашем Тополевом переулке опять перегорел фазовый переключатель и в ближайших домах вырубился свет. Поспешно вскакиваю и, запнувшись спросонья о тапочки, спешу в прихожую. Кого это там в такую рань принесло?- Кто?
И начинается. Свистопляска.
- Сто грамм.
- Конь в пальто.
- Пень в манто.
- Хрен с горы.
- От вас позвонить можно?
- А Палыч где живет?
- Нам бы стакан, мы вернем.
- Участковый.
- Калорифер на газовой колонке менять.
- Снять показания водосчетчика.
- Крысы не беспокоят?
- Как с тягой?
- Бандиты.
- Распишитесь, вам телеграмма.
- Ведро моркови и три кочешка капусты за бутылку не возьмете?
- Иван Федорович Крузенштерн: человек и пароход.
- Хозяйка дома?
- У вас почтовый ящик горит и белье сперли!
- Кофточки пуховые недорого, не посмотрите?
- Ара, беженцы из Тогжикистона, да.
И такая дребедень целый день: динь-ди-лень, динь-ди-лень, динь-ди-лень! Но ничего, помаленьку мы привыкаем к новым "знакомствам", расширяем свой кругозор. Надеюсь, что со временем у нас в окружении появятся и те люди, которых мы будем сами с радостью приглашать в гости и с нетерпением ждать вместе с мамой у себя дома.
8А маленькая Аня, забившись под стол, сердито сжимает крохотные кулачки и бубнит:- Уфоди, Баба Ежка, уфоди.
Кто-то ее тогда напугал.
Мы отдыхаем в Комарово, под Питером. Тогда я всего лишь пятилетний, заезжий с мамой и тетей Таней Кириченко, грибник. Грибы я ненавижу и есть их отказываюсь с пугающим упорством. Зато мне, как гончей по следу, доставляет неподдельное удовольствие их собирать. Встаю часа в четыре утра, чем немало досаждаю обитателям домика на опушке, и, едва продрав глаза, зову всех в лес.
Сейчас все изменилось. Я расчухал грибы - соленые с красным сладким луком и сметаной, жареные с картошечкой, маринованные под водочку, просто крякнуть! Но совершенно перестал в них разбираться и что-либо понимать. Каждый раз, как заблудшая корова, молочу копытами по драным охвостьям палых веток и вздувшихся корней и хлюпаю по кочкам зовущих болотец, чтобы уточнить: хороший ли гриб срезал или верную дрянь? А то вообще плюну, наберу лукошко поганок да ложноножек и хожу в сомнениях до общих смотрин-переборов. Какое уж тут удовольствие, когда одна мысль свербит, вертится: как бы на потраву не соблазниться?
А у лесосеки в Устье, что за Соколом, наткнулся на семерых козлят.
- Маслят, наверное? - смеюсь, спрашиваю, уточняю. - Оговорились, видно?
- Козлят, - консультируют. - Козел ты этакий.
- И в самом деле - козлят, - стряхиваю пелену наваждения. - Как это я мог их с маслятами перепутать? Вы уж меня простите, дуру грешную. Обознатушки вышли.
- А в другой раз, к примеру, скажем, ан глядь вдругорядь - токмо молде дескать и небось. А вот!
Вы не пугайтесь, это не я так думаю. Это меня так утешает дурачок из деревни, который взялся показать нам за курево грибные места. Дурак-то дурак, а с куревом прижало - соображает.
- Так дык, елы-палы, всклянь бывалоча нальешь, жахнешь, епу ее скрива-налево, и пиши - пропало, - стараюсь ответить в тон: поддержать разговор, выразить признательность за участие и сочувствие.
Не получается. Он делает вид, что не понимает. Придуривается, наверное. Дурачок, одним словом.
9- О-о, Тоха, и ты здесь! Откуда путь держишь?Это меня так встречает в наших Веденеевских банях Юра-Шпагат, коптильщик, массажист и душа-картежник по совместительству.
- Да из Москвы, брат. Из нее, Белокаменной.
- Ну, это бывает.
"От эт' не умирают", - добавляю я, вспоминая присказку своего кабардино-балкарского друга и сокурсника по Литинституту.
Бани, конечно, не наши. Но если всех выпроваживают ровно в восемь, то мы засиживаемся и до двенадцати.
- Как пар?
- Отменный! Только что просушили, закидали, эвкалипта капнули - лучше не придумаешь!
Веденеевка - единственное место в Вологде, где топят дровами. В других банях норовят углем, а то и вообще - газом. Многие ворчат: бассейна, как в железнодорожной, нет. А на кой ляд он сдался? Муть да венерология одна; воду, словно в отстойнике, по целым неделям не спускают. Ну не Сандуны по размаху, как в столице, так что ж с того?
Парит веник. Веник парит. После - ледяной душ. Чай, минералочка в буфете. Охлажденную водочку вместе с принесенной снедью оставляем на потом. Уже перед генеральной помывкой вкушаем, не торопясь, со знанием дела под партию в "козла", хотя я иногда предлагаю расписать "кинга" или "пульку". Никаких ставок не делаем. Это правило. Мораторий наложен и на разговоры о работе. Отдыхать - так по полной программе. Сквернословов выпроваживаем. Омрачают отдых лишь участившиеся случаи воровства: то куртку подрежут, то по карманам пройдутся. Один раз, правда, засекли. Убьют, думал. Весь берег Содимы кровью залили.
- Сессию сдавал, что ли?
- Сессию.
- И что теперь писать будешь?
- Мастер этюд задал. "Беспечное лето-98" называется. Да только зима вот уже, и не до беспечности что-то.
- Ну, насчет этого ты брось. А со временем года, подумаешь! Телегу вон тоже в морозы советуют запрягать. Напишешь "Беспечную зиму-99". Изменится разве что?
- Вряд ли.
К третьему заходу в парилку поспевает палтус. Золотистая корочка и дразнящий аромат. Рыбины такие большие, что пришлось делить их пополам. Иначе поместить в коптилку нечего было и думать. Сразу же закладываем на решетку второй приход. Подобное кулинарство - наша внегласная субботняя традиция. Рыбу чередуем с мясом. В подсобке, ключи от которой есть только у нас, кроме коптилки, хранится мангал с наборами шампуров. Мне сварили на заказ почти такой же, только еще и с отвинчивающимися ножками. Так что у себя в саду возле дома я частенько устраиваю пикники. Этакий маленький уголок Средней Азии в северной губернии, из расчета: килограмм баранины на рот. Мой друг Юрий ворчит, что это - слишком много. Но я его каждый раз терпеливо убеждаю:
- Пусть будет.
В конце концов, излишки несложно дожарить на следующий день. Хлопоты-то приятные. И я очень дорожу такими встречами, потому что можно собрать всех тех, кого я теперь считаю своими товарищами. Будет очень обидно, если когда-нибудь выяснится, что это не так. Я выношу из сарая стол и стулья, нахлобучиваю, больше для смеха, поварской колпак и с видом заправского гурмана начинаю колдовать над мангалом. Ештэ, пэйте, сигодна ви мои госты. А когда выдается пауза, то шинкую папиросными ломтиками лук, помимо того, что уже томится в маринаде.
Многие насаживают на шампуры целые ассорти ненужностей: дольки яблок, сердцевинки сахарных томатов. Ни к чему это, тем более что при желании все можно подать к столу отдельно, среди зелени. И ни в коем случае не стоит снимать мясо в какую-нибудь дурацкую пластмассовую тарелочку. Его нужно непременно есть с шампура и запивать выдержанным красным вином. Только покажите мне в Вологде хоть один магазин, где бы продавали настоящие грузинские сортовые вина.
10Во фрунзенской тени пятьдесят два градуса - это рекорд. На солнечной стороне термометр зашкаливает, он того и гляди взорвется или взлетит на воздух. Чтобы привести себя в порядок, отпиваюсь на кухне раскаленным чаем. И хожу по квартире в прополосканной под краном простыне. Ее хватает минут на десять, потом ткань превращается в скрученный заскорузлый саван. И все начинается по-новой. Такая температура, безусловно, перебор. Но градусов сорок я переношу стоически, смеясь в лицо припекающей жаре. Поэтому, наверное, понятно мое отношение к суровой лютой зиме на земле Вологодчине.О, эти дивные морозные дни! Этот легкий скрип под ногами и ледяные горки! Парящее клубами дыхание и румянец на щеках раскрасневшихся прохожих! А чего стоят сугробы, накрытые хрустящей скатертью со взявшейся корочкой, и рыбная ловля в лунке, проделанной пешней с тем упоением, которое знакомо лишь истинным удильщикам Вологды-реки! Причудливые хитросплетения узоров на окнах и зеркальная гладь серебристых катков!
Как я все это ненавижу, кто бы знал! Отмороженные носы и, из-за слабого кровообращения, пальцы. Гололед и шараханье - хрясь! - со всей дури головой о застывшую кромку наста. Пронизывающий холод и срывающиеся с крыш сумасшедший сосульки: без остановок, к конечной.
А в девятом классе, помнишь?
- На лыжи, Антон, на лыжи.
- Кирилл Сандрыч, да я снега-то никогда не видел!
- На лыжи, Антон, я сказал, на лыжи.
- Кирилл Сандрыч, да я и лыж тоже никогда не видел!
И что в итоге? Пятикилометровый марш-бросок в Кирики-Улиты с языком на плече и три девочки-доходяги, которых на финише умудрился обогнать даже я.
А чего стоят эти зимние графики дежурств? В восьмиквартирном доме проживают преимущественно пенсионеры, превратившие уборку снега в своеобразную культовую греблю, байдарочники отдыхают. Видите ли, скинуться на дворника по пять рублей с почтового ящика в их планы не входит. И вовсе не в деньгах, как послушать, дело. А в сомнительном здоровье, которое они якобы приобретают, исходя до седьмого пота на тридцатиградусном дубаке. Расписание же очередности составляется доступно и просто, как и все гениальное: смена включает столько дней, сколько человек, включая грудных младенцев и немощных стариков, проживает в той или иной квартире. Но приходится мириться и принимать навязываемые правила: маршрут вокруг дома и широкий проспект к сараям и гаражам. Это если учесть, что уже в минус двадцать пять я прекращаю функционировать напрочь. А выдается и пожестче: тридцать восемь - сорок два. Какая уж здесь акклиматизация, если перепад почти в сто градусов? Тот же Кафельников еще легко отделывается. А то все российские комментаторы прямо с ума сходят, как воспримет Евгений смену поясов, как его организм отреагирует и перестроится с зимы на лето, если он рванет после Нового года на теннисные соревнования "Австралия-оупен".
11Я наведывался в Бишкек позапрошлой осенью. Тогда Бориса уже и след простыл. Поднялся в бывшую квартиру, впустили - еще помнили, ведь этим людям мы поменяли свою двухкомнатную на их комнату в малосемейке и доплату в десять тысяч рублей. Помню, я еще очень сильно переживал, что вдруг что-то сорвется и мы не сможем переехать, завязнув в этой халабуде навсегда. Продажи квартир по-прежнему не было, и малосемейку мы просто бросили, выписавшись из нее. Прописать туда кого-нибудь из родственников, чтобы не оставлять жилье вытурившему нас государству, ни у кого даже не возникло мысли.Как нам растолковали позже в ушлой юридической конторе, занимавшейся оформлением некоторых бумаг, из-за более чем скромного метража никого бы третьего к нам все равно не подселили. Но соверши мы вовремя фиктивный родственный обмен, уехав на Вологодчину формально от маминой двоюродной сестры или из семьи бабушкиного брата, сохранить наше временное пристанище нам, может быть, и удалось бы. Однако такими комбинациями никто из нас заниматься не умел. Голова тогда работала совершенно в ином направлении и шла кругом от других забот, которых, поверьте, и без того хватало с избытком.
Пока мы перебирались, случился очередной рост цен. Да купить квартиру в Вологде было и так невозможно. О приватизации еще слыхом не слыхивали. Только если кто-нибудь продавал свой кооператив. Но северная плата до того разнилась с фрунзенской, что мечтать об отдельной жилплощади и не приходилось. Нас просто поставили в многолетнюю очередь такими-то по счету.
Переселенцы из Киргизии стали получать статус беженцев лишь два года спустя, когда творящиеся безобразия наконец были признаны таковыми на официальном уровне. В девяностом же ни ссуд, ни льготных условий нам не полагалось. Да это скорее всего и не спасло бы положения. Стоимость кооперативов действительно казалась запредельной; она зашкаливала, как тот термометр на солнце. И мы сменили относительный комфорт на шебутную неустроенную общагу.
Я медленно брожу по когда-то нашей квартире, и за мной, как когда-то за Димкой Дроздовым, также повсюду следуют по пятам. Правда, без напряжения, а что-то показывая и даже щебеча. В кладовочке, прямо из прихожей, по-прежнему наши взбирающиеся до самого потолка, теряющегося в темноте проема, полки. Потолки у нас, кстати, высокие - три сорок, и в свое время нам изготовили стремянку на спецзаказ. Чужие куртки висят на изогнутых медных крючках нашей старенькой вешалки. Кое-какая родная утварь разбросана по дому. Все так и не уместилось, поэтому что-то досталось в наследство новым жильцам: трюмо, табурет, прихватки, горшки с цветами, кружка с нарисованным Емелей, который "сторожил" губки для мытья посуды. В большой комнате вместо обеденного стола на полу развалилась циновка, а в кухне протекает потолок. Раньше над нами жила соседка со смешной фамилией Туча, которая постоянно заливала нас своим размороженным холодильником. Туча уже умерла, а потолок "по привычке" все равно протекает. В мою комнату не попасть - там разобрана постель. Зато кафель в ванной все так же обдает ноги прохладой.
Что говорить о том, что связано с этим местом, если здесь прошло больше двенадцати лет моей жизни? Молча выкуриваю сигарету, невпопад киваю головой на незатейливые вопросы типа "Как дела?", благодарю, прощаюсь и выхожу. Подъезд тоже хранит частичку нашего. Синяя краска на железном почтовом ящике местами облупилась, но сам он смотрится еще хоть куда. Правда, сквозь пыльные отверстия не проглядывают газеты, и наш верный посредник с цифрой "5" уже давно не везет службы. В самом детстве я был уверен, что в школе буду учиться на одни пятерки, потому что у нас и ящик был "отличный", и номер квартиры с пятеркой "совпадал".
Двор опустел. Фонтан давно забит. Ограда разобрана. Одной беседки нет и в помине. От второй, что ближе к моему подъезду, остались остов да крыша. Телефонные будки, ларек печати и автомат с газировкой, стоявшие возле остановки, списаны в утиль за ветхостью, непригодностью и давностью лет. Сама остановка тоже упразднена. Теперь до транспорта нужно идти пару кварталов вправо, до улицы Логвиненко, или влево, до Белинского. А ведь это - все тот же центр города, да что города - столицы! - если его, конечно, тоже не сместили и не перенесли.
12Собрать дворовую компанию не удается, да ее уже давно и нет. Андрей из углового подъезда живет все же отдельно. Квартиру пришлось купить, ведь у него с женой растут двое детей. Стас узнает с трудом и смотрит на меня снизу вверх. А каким великаном он казался нам раньше. Стас работает при каком-то институте, его родители уже вышли на пенсию. Из Турабековых я застаю дома только Аскерушку. Улыбается и говорит, что помнит. Но во двор не выходит, а пригласить в квартиру просто не догадывается. Стоять на лестничной площадке, в дверном проеме, неудобно, и мы вскоре прощаемся. Он все учится в школе, хотя я так и не понял, в каком классе. И почти, как сказал, не болеет.Лешку Меньщикова вызвонить все никак не удается. Его мать где-то отдыхает, а он сам, как рассказывают во дворе, уже который год ухаживает не то за киргизкой, не то за кореянкой. И дело полным ходом движется к свадьбе. Его за это осуждают. Цокают: нет чтобы ему русскую найти! Тетя Таня выбор сына вроде тоже не особенно одобряет, но что передавать чужие недомолвки? Если все серьезно, то Нихёль сейчас, наверное, уже женат. Как положит себе что-нибудь сделать, так сделает, он такой.
Андрей Ганкин пропадает в командировках. Его бабушке Генриетте Исааковне уже под девяносто. И хотя все больше она похварывает, до сих пор выходит гулять сама в своих знаменитых коричневых туфлях а-ля "Старый вальс", которые я помню еще со времен трости Анны Семеновны, прабабушки Димки Дроздова. Уш нагоняет меня у "девятиэтажки", когда я, уже в последний перед отъездом раз, захожу к нему и опять возвращаюсь ни с чем. Но у него очень мало времени, он куда-то торопится. Поэтому мы опрокидываем по пиву, обмениваясь беглыми экскурсами, да так по-дурацки и расстаемся.
Манштейны еще в городе, но съехали со своей квартиры. Мамырины собираются в Калининград и уже упаковывают вещи. Их Димочка вырос и очень похож на Вадю. Берта Владимировна Усецкая несколько лет назад умерла прямо на своем балконе, среди леек и цветов. А Ада Васильевна Мельникова разводит у себя на третьем этаже кур. Сейчас введена национальная валюта, сомы и тыины, и все безумно дорого. А это кудахчущее хозяйство ее все-таки выручает.
Дроздова оставляю напоследок. Вскоре у него день рождения, и я хочу дотянуть, чтобы сделать ему двойной сюрприз. Но ехать в такую даль наобум, да тем более вечером - днем у людей ведь тоже могут быть свои дела, - как-то не хочется. И района не знаю, и не застать будет обидно, мало ли какие заботы выдадутся? Поэтому через бабу Тоню уточняю Димкины планы. Нет, он может припоздниться, но как только, так сразу. Все в узком семейном кругу, скромно и без гостей.
Мы допоздна сидим с ним на кухне. Изменился, но узнаваем. Тоже ниже меня ростом. Но взгляд - прежний. Только улыбка какая-то усталая и нечастная, и лицо чуть тронуто оспой. Жанна выдает свою бабушку - та не сдержалась и обмолвилась ей в разговоре по телефону о моем приезде. И Жанна с матерью разглядывали до моего прихода альбомы со старыми фотографиями, чтобы вспомнить, какими мы все были десятилетие назад. Димку я поджидаю во дворе, он действительно сильно задерживается, и я уже начинаю опасаться, что наша встреча может не состояться.
Дмитрий отчитывает меня, отчего я не предупредил его о своем приезде. Он бы нашел возможность встретить меня в "Манасе". От аэропорта добираться действительно неудобно. Он находится в двадцати пяти километрах от города, а когда приземляется рейс Москва - Бишкек 153-й автобус, курсирующий между "Манасом" и столицей, уже не ходит. Поговаривают, это частники-шоферилы устроили, чтобы никакого транспорта, кроме их, не было.
Институт он уже закончил, но получение диплома - ставшая уже старой песня. Да и по специальности не устроиться. Димка пошел по стопам отца, а на ТЭЦ сейчас сокращения. Жанна собирается поступать в вуз следующим летом. Росточком она вышла невысокая, хотя, конечно, выше, чем я ее помню. До последнего она крепится и сидит с нами на кухне, подогревая манты. На балкон ходим курить все втроем. Жанна с нами не пьет, а нас с Дмитрием водка что-то не забирает.
С отцом и бабушкой он видится часто. Петр Васильевич, дед, полтора года назад не перенес очередного инфаркта. Новый муж матери, тоже Петр, пьет крепко и подолгу. В начале вечера они сидят с тетей Светой вместе с нами за столом, но вскоре уходят. По его виду, что он закладывает, вроде и не скажешь. Но цвет лица землистый, и что-то выдающее в нем человека, неравнодушного к спиртному, есть. Третий год он нигде не работает. Предприятие ликвидировали, и он из-под полы сбывает с рук прихваченные перед увольнением приборы. Вся эта тягомотина, от заработка к заработку, тянется без конца и края. Димка пытается искать шабашки и возится с допотопной развалюхой "Волгой", доставшейся в наследство от отчима, чтобы заняться извозом и хоть немного подкалымить.
За Жанной давно ухаживает молодой человек, которого тоже зовут Петром. Об этом мне рассказывает баба Тоня.
- Вот как получилось, - говорит она. - Три поколения, и у каждого - Петр. Знала бы, сына своего лучше так назвала. Хоть на старости среди внуков жила бы.
Она сдает с каждым годом. Волосы седые, и подводят глаза. Особенно ей уход мужа нелегко дался, думали, не оправится. Дядя Женя рад меня видеть. Расспрашивает, вспоминает, делится. О переезде в Россию и говорить не приходится. И так перебиваются случайными приработками, руки-то золотые - все умеет. Но перед матерью чувствует себя ужасно неловко из-за того, что хронически не хватает денег. При мне он укладывает в сумку двенадцатитомник Марка Твена, чтобы снести его в букинистическую скупку. Там он уже был, справлялся - обещали взять, всего за двадцать сомов.
Наутро мы расстаемся с Димкой. Он медленно провожает меня до остановки, и мы долго ждем, пока придет нужный автобус. Годами раньше так же провожал его я. Но в другую часть города, а не в другое государство.
13Сам Фрунзе превратился в один огромный, нескончаемый базар. Торговых рядов не видно, но они тянутся в каждом дворе, пересекают площади, вьются и петляют вдоль арыков. Но нет ни шума, ни привычной сутолоки, ни торга и прицениваний. Не услышать и обычного заманивания и похвальбы "половина мед - половина сахар", без которых не обходится ни один уважающий себя продавец.Торг идет по городу неспешно, сонно. Никто не хочет покупать выставленный товар, и никто не хотел бы с ним расстаться. К тому же сами продавцы знают, что вряд ли их утварь вызовет у кого-нибудь интерес. Это люди выносят на продажу все, что может быть на это годно. Оставляют по количеству членов семей посуду и расстилают на земле или на ящиках газеты и целлофан с "лишними" чашками, вилками, блюдцами. Прочий "ненужный" скарб тоже идет в дело. Чего здесь только не увидишь: солнцезащитные очки в давно вышедших из моды огромных оправах и разнокалиберные расчески, потускневшие игрушки, чьи первые владельцы давно выросли и уже успели состариться; потертые ремни и пожелтевшие фетровые шляпы, переключатели и провода, транзисторы и открывашки, сломанные зонтики, шампуры и открытки с видами хребтов Таласского Алатау и Кюнгёй - Ала-Тоо...
Все, что хранилось в домах и служило годами. Все, что так дорого сердцу и памяти, но не нужно никому, кроме тебя. И что в лучшем случае удастся сбыть за бесценок, от чего станет еще горше. Хотя людям и без того свойственно переоценивать то, чем они владеют. Вырученные гроши все равно не спасут, но без них будет совсем невпроворот. И каждое утро с этими вещами и вещичками мысленно прощаешься и расстаешься. И каждый вечер, как дитя, радуешься тому, что они остались при тебе и вернулись под твой кров, но вздыхаешь, что опять так ничего и не заработал. С новым днем возвращаются эти испытания и мучения, и охватывает чувство стыда. Но люди вновь разворачивают на улицах и на скамейках перед подъездами свои домашние базарчики, пряча взгляд от прохожих и желая, чтобы скорее закончился еще один день. И так повторяется снова и снова.
Существенное уже давно распродано. Мебель сдана в комиссионки, книги - в скупки, украшения и кое-какие ценности заложены и перезаложены в расплодившиеся на волне нужды ломбарды. Люди уже не надеются, что выкупят их обратно, со временем восстановят библиотеки. Имущество и обстановка тают с каждой неделей. А вера в то, что многое, если не все, когда-нибудь вернется, потеряна уже давно и даже у самых хорохорящихся оптимистов - призрачна и эфемерна.
Целый день я без устали брожу по городу. Но надо торопиться. После восьми вечера здесь никому не открывают: будь ты хоть Дедом Морозом, хоть президентом Аскаром Акаевым. Навещаю знакомых, как заведенная кукла повторяя уже навязшую в зубах историю о том, как мы там. О проблемах стараюсь не говорить. Их хватает, но они несколько иного плана.
- В Междуреченском районе у нас одно время ели комбикорма.
- Зато там никто никогда не называл вас захватчиками.
Захожу к Борису. Захожу - громко сказано. Долго объясняю через цепочку, кто я есть, за что мне на полминуты разрешается заглянуть в проем чуть приоткрытой двери.
Самому тоже пора спешить. Надо успеть до темени добраться к родственникам, у которых остановился: доехать до магазина "Кашка-Суу" и пересечь парк так называемой Дружбы. Чем раньше, тем лучше. Миролюбивое название зеленого массива уже давно не дает гарантий спокойствия.
14Я вот еще что думаю. Если мы когда с Борисом и увидимся, в чем ни он, ни даже я пока вообще-то не сомневаемся, мне будет немного легче. Свои фотографии Борис высылает более-менее регулярно. Всего их у меня семь: во младенчестве, вместе со мной, на дереве, у океана с друзьями, на провисающем поперечном шпагате, раскинутом на стульях, у какого-то баобаба и с друзьями теми же, но без природы. А мне ему и послать-то нечего. И фотографируюсь редко - разве что на документы, и получаюсь не очень. Надо хоть специально щелкнуться да выслать. А то Борис увидит - не узнает.
Он мне в этот раз по телефону уж и так признался, что если бы не знал, что на том конце провода я болтаюсь, ни в жизнь, что это - я, не то что не поверил, просто бы не понял. Такие дела. Я-то его, конечно, еще узнаю, несмотря на появившийся акцент: во-первых, одесский, во-вторых, заокеанский. Насчет второго понятно, но откуда взялась Одесса, сказать трудно. Он там был-то всего ничего.
А вот его почерк я буду отличать, кажется, всегда, хоть полвека пройди. В английском его хромописание, может, и выправится, а с русским - чтой-то я сомневаюсь. Да вы бы и сами нахмурили брови от напряжения, пытаясь разобраться в этой дикой пляске черточек и загогулин, вид которых можно передать, лишь приведя здесь ксерокопию его с детства знакомых мне каракулей. К тому же русский ему вряд ли теперь так уж нужен. В его компании, конечно, много выходцев из Союза, и среди них есть те же самые киргизы. Но английский берет свое, и тетя Лина даже признается, что ряд слов ими забывается или уже забыт напрочь и вспоминать их, в случае редкой необходимости, приходится чуть ли не всей семьей.
Знаете, письма - это хорошо, но телефонный звонок - действительно совсем другое. Услышать живой голос, воспринять его как всполох среди пустоты в общении - это уже очень много. Разговор по проводам - как для страждущего глоток воды, тем более если связь не обрывается: сумбурная вереница того, что хотел сказать, успевает оформиться. Слов произносится будто и меньше, но насколько весомее они становятся без этого тарахтения, захлебывания и плевков от скороговорки, словно самое главное - отбарабанить на одном дыхании без запинок: "Ехал Грека через реку". И чем осмысленнее становится произносимое, тем тяжелее оторваться от трубки.
- Ты меня что - плохо слышишь? - спрашивает он.
Он тоже, видимо, взволнован. Он тоже по мне, надеюсь, соскучился. Но по сравнению со мной он - просто спокойствие. До такой степени, что я начинаю казаться себе неуместно сентиментальным, телячьи нежности.
- Почему? - продолжаю кричать я и, продолжая кричать, по инерции крича, спрашиваю. - С чего ты взял?
Ответ знаю и сам. Просто нужно успокоиться и привыкнуть к нормальной связи. А этого-то я сделать и не в состоянии. Не могу взять в толк, почему за двадцать три - или сколько их там? - тысячи километров слышимость как из соседней комнаты. А к приятелям, если разрешает позвонить соседка, приходится продираться с глухим хрипением и клекотом в телефонных линиях, сквозь безразличные "В данный момент категория абонента недоступна", будто трубку снимают не через несколько троллейбусных остановок, а через целые временные пласты откуда-то взявшихся на пути лет.
Как у меня дела? Ну что ему на это сказать? Человеку, который сидит себе в солнечной Австралии и из глубины какой-нибудь бухточки смотрит в даль Бассова пролива. Все идет, Борис. Что я, как ты?
Да, занятия карате он не оставил, но поступать в Институт спорта - австралийский аналог нашего физвоса - передумал. Что-нибудь связанное с медициной - другое дело. Другое, соглашаюсь я. Там это почетная и уважаемая профессия. Как со спортом у меня, что мой теннис? Сказать как есть - только разбередить себя. Семь с половиной лет упорных тренировок по пять-шесть часов в день - коту под хвост. Как там говорят? Мастерство не пропьешь? Может быть. Но перерыв длится уже десятый год, а когда мы переехали, такой секции в нашем областном центре не было вовсе.
- У вас там нет теннисных спорткомплексов? - удивляется Борис.
Я мнусь с ответом. Со спорткомплексом - это он, конечно, загнул. Сейчас, правда, занятия по теннису на одном стадионе ведутся. Да только вместо положенных двух игроков по корту скачут восемь, занимая парами оба квадрата и коридоры. А еще чаще площадки вообще сдаются предприимчивыми тренерами за сумасшедшие деньги, хотя и с нас тоже берется месячная плата за приобщение к престижному виду спорта. Да в том-то и загвоздка, что мне не до престижности, а форму бы восстановить. Но предпочтение по финансовым соображениям отдают разовым до блажи: им без тенниса сейчас - ни в какие ворота, ведь неумение держать ракетку - чуть ли не признак дурного тона у новоросов.
- Все как-то, знаешь, не получается, Борис.
- Зря, - говорит он. - Это большие деньги.
- Ага, - соглашаюсь я. - И на Уимблдоне ты бы мог смотреть меня по телевизору, а я бы тебе подмигивал после каждой выигранной подачи.
- Почему на Уимблдоне? - спрашивает Борис. - Лучше бы ты приезжал от российской команды на "Австралию-оупен" и мы бы встречались.
Но это и я, и он, не подумавши, чересчур завышаем планку.
У Бориса в плане соревнований все в порядке. Занял третье место по Мельбурну, переколотив в своей весовой категории тучу претендентов на призовые места. Так что уж если кому куда и ехать, так это ему. Но раз основное - медицина, своего клуба у Бориса не будет. Что ж, будет своя клиника.
Я признаюсь, что загнал скейт, который мы, отдавая, скорее, дань повальной моде, чем желаниям, выбирали вместе на мой день рождения; скибт был ценен больше как память, потому что кататься на нем я все равно толком никогда не умел. Борис говорит, что свой он оставил еще при переезде, хотя ходить пешком потихоньку уже отучается. Через неделю получит права, но втихаря давненько осваивает "тойоту-короллу".
15Семейный бюджет приехать ему позволяет. Но сам он еще не работает, а родители копят деньги на особняк, и поэтому с визитом пока придется повременить. Я делаю вид, что все понимаю. Поездка - это всего лишь толика от приобретения внушительной собственности. Но раз копейка бережет рубль, то уж доллар там у них без цента никуда. А потом я думаю, что, наверное, и подавно не имею права судить о том, куда кому ехать. Только в одну сторону билет из Австралии стоит больше тысячи американских долларов.Борис почти каждый раз настоятельно советует учить английский. И я понимаю, что он прав. Но все не учу. Молодец, говорят мне те, кто его тоже не знает. Все равно никуда отсюда не вырвешься, к чему мудохаться? А появится возможность, так там за "бай Илону Давыдову" или "Ешко" и засядешь. Произношение будет ни к черту, зато какие азы! Но я опять понимаю, что она не появится прежде, чем я засяду. Ох, уж мне эта постоянно путающаяся под ногами причинно-следственная связь. Да и почему обязательно вырваться? Ну уж не для того же его зубрить, чтоб Мопассана в подлиннике читать! - парируют те же. И с этим я соглашаюсь. Правда, Мопассан писал по-французски.
Но приятнее мне то, что мать Бориса, как я узнаю потом от своей мамы, благодарна ей за меня и мне за то, что я научил - когда успел? - ее сына заботиться и думать о близких, как ни высокопарно это звучит. Получая плитку шоколада, делить ее на всех, включая даже самого подарившего. Угощая, пусть чем-то последним, быть готовым к тому, что не последует отказа. Не задерживаться и возвращаться из школы или после мелких поручений одна нога там, другая здесь. Потому что, если иначе, будут волноваться, мало ли что - особенно в последнее время, и лучше отпроситься потом.
А еще мне были признательны за те подарки, которые научился делать Борис, понявший, что приятно не только получать их. Сначала я поступал просто: в преддверии какого-нибудь праздника брал его в обход по магазинам с собой. Затем это вошло в своеобразную традицию и мы уже искали, советуясь, подходящие презенты вместе. Его одного могли обмануть, обсчитав на сэкономленные по крохам полтинники и желтые рубли. Помню, однажды нас приняли за братьев, и продавец цветов долго навязывал нашей общей, как считал, маме свои, нам ненужные, поздравления. Причем тщетно пытался их втюхать вместо сдачи с пятерки, что мы выложили за два букета.
Так как у меня все-таки дела?
- Да нормально! - опять кричу я. - В следующий вторник, через неделю, в Москву, на сессию. Наконец-то четвертый курс!
Он рад - помнит из писем, что до второго я добирался уже четыре раза, а тут на тебе - уже четверокурсник!
- Когда книжку вышлешь?
- Вышлю, вышлю, - неопределенно обещаю я.
Вот напишу, чтоб не стыдно что высылать было, и вышлю, а не то как с фотографией получится. Борис знает о моей рукописи, просит почитать, как только она будет закончена. И предлагает переслать ее по Интернету или скинуть по какой-то электронной почте. Причем расходы благородно берет на себя. Но беда в том, что все эти компьютерные технологии для меня - глухой угол; и рад бы, да не могу.
- Зря, - вновь корит меня Борис. - Это очень удобно.
Я и не думаю перечить. Но вот такая дурацкая у меня манера: не разбираться в том, чего сам пока не имею. А появится что, так там тихой сапой и кумекаю. А тот же Интернет - штука, конечно, удобная, кто же спорит? Борис его посредством регулярно то со Светкой, то с Сашкой Мельниковым связывается. Видать, у них тоже доступ к сети имеется.
Надо же, Борис помнит нашу игру на лайбе! А ведь ему тогда было всего года четыре. Я сажал его на багажник своего "Школьника" (или уже "Салюта"?), и мы украдкой уезжали в какие-нибудь далекие городские районы, куда, естественно, нас не отпускали по малолетству. Чтобы велосипедные путешествия были еще интереснее, мы давали этим районам названия тех стран мира, которые были на слуху, вгоняя тем самым недоумевающих обитателей двора в состояние полного любопытства.
Так мы побывали во Франции, Англии, США и где-то - где-то еще, всего и не упомнишь. В Австралии были тоже. Мне тогда не ставили пятерок по географии, но я знал, что этот материк - дальше всех. Находился он по нашим масштабам, как сейчас помню, на ВДНХ, ближе к горам, и мы туда очень долго не могли собраться. В конце концов, семья Бориса тоже оформляла все надлежащие документы и справки и ждала очереди чуть ли не целых три года.
- Ты меня еще часто оставлял в этих странах, - говорит Борис. - Этого я тебе, шучу, никогда не забуду.
Действительно, так бывало. Иногда, повздорив, я ссаживал его за тридевять земель от нашего двора на Московской и делал вид, что вот-вот уеду. И никогда не уезжал.
- Но ведь в Австралии-то я тебя с багажника не спускал, - говорю я, хотя наверняка этого не помню.
16- Ести хотчу.Это на масленицу у лотка с выпечкой стоит маленькая девочка и, тыча в расстегай с нельмой, клянчит у отца.
"Ну, - думаю, - папаша сейчас исправит".
Куда там! Еще похлеще:
- Дома исти будешь.
И так в Вологде - сплошь и рядом. В автобус нужно непременно сести. Варенье получается только из смороды. Пироги собираются испекти или в лучшем случае испекчь. В лес ходят исключительно за грибам, в магазине торгуют курам. Сыпучий сахар не более чем песок; баклажаны - синенькие. Младенцев укладывают в зыбки. На кладбище ездят хоронять. Стены щикатурят, с делами справляются по намеченному планту. А говоря об отсутствующих, неизменно вворачивают: ёйное, ихнее, евонное... Зверь же (медведь, допустим) статья вообще особая: он хронически ривит.
- Человек ревет, а зверь - он ведь не человек?
- Не человек, - автоматически киваю я, не подозревая, что попался на удочку.
- Вот потому и ривит.
И удивляешься этому языку, и постигаешь его, и передергиваешься иногда от чудного, резкого слуху произношения. Вроде и твой он, а в то же время точно обернется на свой лад, на вологодский. И все-то его, кто здесь живет, понимают. А ты стоишь как дурак - и глазами только и знай, что хлоп-хлоп, морг-морг. И опять за постижение принимаешься, ловишь необычные формы, чтобы наперед знать, о чем речь зайти может, и белым груздем, когда зайдет, не выглядеть.
Зато все надписи на русском и в магазинах продавцы не разговаривают с тобой демонстративно на чужом языке.
Ну а что холодно и зимой за минус сорок лютует - так доху потеплее купить нужно.
Тем более что это - бувает.
От это не умирают.
Статистика.
А как в девяносто третьем Борька сетует на школьное обучение! Мало того, что с языком этим киргизским не развезешься, так еще и произведения местных писателей вовсю гонят и тексты других авторов, если где о киргизах сказано, в пример приводят: вот мы какие, нашу культуру еще Пришвин в "Черном арабе" воспевал! Борька показывает мне свою тетрадку по литературе, куда заставляют делать выписки особенно замечательных эпизодов, как называет эти отрывки учительница.
- А это уже я сам постарался, - с гордостью говорит Борис, переворачивая несколько страниц. - Мне, правда, папа подсказал.
Красной пастой сделана выписка из купринского "Молоха":
"На повороте около склада Бобров заметил даму в амазонке, спускавшуюся с горы на крупной гнедой лошади, и следом за нею - всадника на маленьком белом киргизе".
- Только мне за это двойку влепили и родителей вызвали, - признается Борис. - Я - училке: вот, говорю, про киргизов еще в прошлом веке писали, они всадникам за дамами передвигаться помогали. А она, стерва, гнет, что я все специально перевираю и с ног на голову ставлю, откопал неизвестно где какую-то неточность или опечатку и издеваюсь. А я здесь и ни при чем, вон в книге черным арабом по белому киргизу написано.
Мы смеемся. Борька доволен, что ему удалось тогда "включить дурака" и все сошло с рук. Ну, не считая двойки и вызова.
- А про Австралию тоже пишут? - вдруг спрашивает он.
Да с таким неумело скрываемым волнением, что становится понятно, как ему будет обидно, если это окажется не так. Примерные сроки переезда уже известны, до него осталось всего несколько месяцев.
- Ясное дело, пишут, - с уверенностью говорю я. - И пишут, и снимают, и чего только не делают.
Но в тот момент ничего конкретного привести ему в подтверждение, к сожалению, не могу, что успокаивает Бориса лишь отчасти.
Зато потом, еще в период Борькиного пребывания во Фрунзе-Бишкеке, я нарочно отыскиваю для него "австралийские отрывки" и привожу их ему в своих письмах. В кинословаре я натыкаюсь на фильм с итальянским актером Альберто Сорди. У картины безумно длинное название, но я переписываю его полностью. Оно до того затянуто, что просто не может сойти за выдумку: "Красивый, честный эмигрант в Австралии хотел бы жениться на не состоявшей ранее в браке соотечественнице".
- Это прямо про меня, - отвечает мне Борька. - Лет через десять - пятнадцать, я займусь тем же.
А вот еще нахожу у Григория Бакланова в "Пяди земли": "Где-нибудь в Австралии вернулся сейчас мой ровесник с работы, ужинает у себя дома. Война там, в России, за неоглядной далью, за снегами. О ней он знает по газетам, а свои заботы близко, беспокоят каждый день. Может, не так велики эти заботы, да ведь свои".
Эти баклановские строки я привожу несколько лет спустя, уже в российско-австралийском послании. И может быть, поэтому они кажутся мне такими верными и близкими, хотя в самом произведении речь идет совсем о другом.
И еще один абзац я аккуратно, лишь с небольшими пропусками, переписываю из этой же повести: "А под деревьями стояли парочки и, затихнув, ждали, пока мимо них пройдут... Их нет теперь, этих улиц. После... отстроят новый город, родятся в нем люди и вот таким будут знать и любить его с детства. Но тот город, в котором родились мы, бегали в школу, влюблялись впервые, - того города уже нет. Он погиб... и живет только в нашей памяти. Не будет нас, не станет и его, даже если сохранятся фотографии. С холодной точностью воспроизводя вид зданий, они не передают то, что знали в нем и любили мы. А главное, в новых людях, когда они со спокойным любопытством будут смотреть на эти фотографии, не вздрогнет и не отзовется то, что отзывается в каждом из нас, лишь только коснешься воспоминания. Очевидно, с каждым поколением навсегда уходит неповторимая жизнь. И с каждым новым поколением рождается новая".
"Боже мой, как верно, - думаю я. - И про детство, и про школу, и про первую любовь, про фотографии, воспоминания и жизнь, уходящую и рождающуюся".
И я знаю, что эти строки, несмотря ни на что, написаны и про наш город, про наше детство, про нашу в этом детстве жизнь.
17Мы разговариваем с Борисом по телефону целых двадцать три минуты - в среднем по минуте на каждую тысячу километров, что разделяют нас; часы висят у меня перед глазами, и я невольно замечаю бег стрелок. Трижды прерываю и его, и себя, опасаясь, что это - слишком дорого. Но Борис терпеливо успокаивает меня, уверяя, что уж это-то ему по карману, это уж он может себе позволить.Мне приятно слышать подобное, потому что позволить это себе я, увы, суммой что-то никак не выйду. Сейчас опять взлетели международные тарифы, и минута связи с далеким материком обходится рублей в сорок, если не больше. Оплатить этот разговор не хватило бы даже всей моей нынешней зарплаты. Хотя ни той, ни нашей национальными валютами он измеряться, разумеется, не может.
В четвертый раз я все же убеждаю его прощаться.
- Лучше уж тогда звони не раз в три года, а два раза в год, но короче, - говорю ему я. - Ведь этот номер - номер наших приятелей, и им всегда можно воспользоваться.
Борис соглашается. И хорошо, что так. Такое длительное соединение в самом деле накладно. Зачем превращать наши телефонные встречи в ощутимые траты? Полгода - в самый раз. Деньги потратятся те же, но уж если не уследим за изменениями внешности друг друга, то хотя бы я за переменами его голоса, набирающего акцент, и за смещениями скособоченных ударений - точно.
Двадцать три минуты, а если разобраться, что мы успеваем сообщить друг другу? Да и что можем сказать, когда прошло уже больше половины десятилетия с нашей последней встречи? То, повседневное, уже забылось. Общие темы - воспоминания, двор, школа № 28, в которой мы вместе проучились его первый и мой пятый (через четвертый тогда отчего-то было принято "перепрыгивать") классы, - почти канули, оставшись в памяти милыми сердцу обрывками и полудетскими образами.
Как выразить, что чувствую я, разговаривая с моим Борькой, прекрасно зная, что мне звонит м-р? Смотрю на нашу единственную карточку, сделанную в каком-то чопорном салоне впопыхах за день до разъезда. Спасибо тете Лине, это она нас повела фотографироваться, а то мы бы, вероятно, так и не спохватились, долго жалея потом, что не догадались о такой, казалось бы, простой вещи.
У меня всклокоченные волосы, я стою, положа Борису руки на плечи. Я выше, и фотограф - что он понимает? - решил: такая композиция как нельзя лучше; ни хрена не понимает. У Бориса несколько смущенное выражение лица и футболка, заляпанная малиновыми пятнами, вправленными ради аккуратности в штаны. На футболке пляшет веселый заяц, которого на разных уровнях обрамляют два дурацких одинаковых слога. Я-то прекрасно понимаю, что я сейчас - какой есть. А вот Борька старше на семь без малого лет никак не становится.
О чем он спрашивает меня еще? Мама, как она? Спасибо. Болела, но сейчас - тьфу-тьфу-тьфу. Да, большая радость. На зиму я припас картошки, затарив ею два отсека кессона и бочонок, что стоит там же, в этом железном бункере, врытом в холодную землю под сараем. Ее я притащил с поля Прилуцкого монастыря - разрешили копать всем, кому не лень; сами-то до порчи погоды убрать все равно не успевали. Мне было не лень до такой степени, что за две ходки я умудрился приволочь на горбу сто шестьдесят килограммов (будто точнехонько отмеривал кто), пожалуй, впервые поняв, как пот действительно может катиться градом). Пришлось торопиться. Моросили дожди, и желающих была тьма. Возвращаясь во второй раз, я, правда, не смог забраться в автобус - рюкзак не дал оторваться от скамьи остановки, не хватило сил. Добрался, что со мной станется? Зато бесплатно. Внутри картошки - сухая гниль, точащая змейкой насквозь. Но бесплатно. Хотя потребительская ценность, как ни чисти, половинная, и то хорошо, ладушки. Только еще позвонки вот выскочили, недавно обратно в хребет вправленные, пять сеансов в бане, по знакомству, но за плату. Так что коль разобраться, какое уж тут - на шару?
Грибов еще набрали. Грибов много: и на жарку, и на варку, и на мариновку, и на соленьице, особенно кубарей да сухарок, которые на Севере величают валуями и путниками. В народе говорят: грибов много - год голодный. Природа, выходит, сама помогает. А еще говорят, что грибы - к гробам, тоже пословица. Но я такому фольклору не верю, ну-ка его куда подальше, такое устное народное творчество.
Это я все потому, что Борис спрашивает: действительно ли в России голод? Ну что я ему буду объяснять по телефону, и так здесь со своим кессоном влез. Вдруг еще не приедет? У многих там, за океаном, похоже, и без того представление о нашей стране сводится к хаосу, свистопляске, косолапящим по улицам трафаретным медведям без привязи и стереотипным казакам с шашками наголо, что рыщут по градам и весям, хитро и пьяно щерясь в свои всклокоченные бороды.
18Что я тебе буду говорить, Борис? Я лучше помолчу чуть-чуть. А потом напомню о себе, попрошу выкраивать время и изредка писать, не забывая о том, что их семью здесь любят и ждут, передам поклон от мамы. На большее я все равно уже не способен.Этих долгих минут вот так достаточно, чтобы я начал впадать в ипохондрию и тоску; у кого-то она, говорят, зеленая, у меня временами - австралийская. Если не выходить из дома, то подавленное состояние длится дня полтора, хотя, конечно, можно было бы написать, что оно тянется, скажем, три месяца, в надежде выбить у сердобольного читателя случайную скупую слезу. И когда мне не нужно бежать выбивать из какой-нибудь газетенки гонорар или вообще вытаскивать себя в город, я думаю о том, как хорошо, что водка у нас стоит не двадцать долларов, как там.
- Зато я буду уверен в ее качестве, - недоуменно парирует Борис, когда я, в порядке общего развития, интересуюсь ценами на спиртное и охаю от баснословной суммы.
Винопитие в момент разговора занимает меня меньше всего, но надо же о чем-то говорить, если мне в который раз втолковывают, что звонок - продолжается.
- Да и я травиться палевом не охотник, - оправдываюсь я.
Я все жду, когда у меня наступит эмоциональный встряс: сяду учить английский, писать, добиваться, утверждаться и проч. Выводить: "На Австралию, Боре. Забери меня отседова, милый мой друг детства" - не собираюсь. А иногда такое упадническое настроение нахлынет, что кажется - впору.
У него впереди еще три полных учебных года в институте. Значит, столько же лет нечего будет и думать о нашей встрече. Он сам неоднократно писал, что внушительный перерыв светит лишь между окончанием двенадцатого класса школы и поступлением в вуз. Что ж, перерыв уже прошел. А потом на смену придут, возможно, аспирантура, работа, карьера, жена и дети. Дела, отвлекающие тебя на ближайшие сезоны. Жизнь, которая не делась никуда и сейчас.
Впрочем, что об этом думать теперь. Следующий приступ австралийской тоски будет еще довольно не скоро. Во всяком случае, никак не раньше, чем через шесть месяцев, да и то если он позвонит.
А за это время мне предстоит переделать уйму дел.
В конце концов, я должен успеть сфотографироваться. Или снять для отправки копию нашей общей карточки. У него, конечно, есть такая же. Но я до сих пор не знаю, что будет лучше для нас обоих.
У меня есть еще одна просьба. Будь добр, никогда не спрашивай меня о погоде. Потому что если последует такой вопрос, то я сразу пойму, что по большому счету нам уже не о чем говорить. Знаю я, как это происходит: "Что? Я не расслышал. Ах, "кстати". А что кстати? Погода как у нас, кстати? Ну, раз уж если это так кстати, то погода у нас, кстати, не ахти". Но я убежден, что так он никогда не поступит. Потому что...
Как там у Чингиза Айтматова в "Тавре Кассандры": "Все-таки австралийцы отличаются чем-то особенным от всех нас, не знаю почему, может, потому, что они на окраине мира?"
На окраине мира, где же им быть еще? А вот с самим Айтматовым не все так просто, и отношение к нему людей, переживших те события в Киргизии-Кыргызстане, - сложное. С одной стороны, писатель, деятель, академик и лауреат; "Материнское поле", "Пегий пес, бегущий краем моря", "И дольше века длится день", "Плаха". А с другой - как он ратовал за это давшееся такой дорогой ценой коварное свободолюбие и за тот же киргизский язык, чтобы его признали первостатейным.
- А сам колесит по дипломатической линии где-то в Европе, - вспоминаю я слова дяди Коли-шахматиста, - вроде послом в Люксембурге. И детей своих почему-то не в Киргизии обучаться оставил, а в каких-то зарубежных колледжах их пребывание оплачивает.
Так ли это, нет, кто его знает? Эта тема, естественно, никем не поднимается, хотя слухи ходят и более конкретные и чаще всего упоминают Лондон. Но чего ж там своих детей не обучать, когда писатель - с мировым именем?
А в свое время, в шестидесятых, а может быть, и позже он жил в доме писателей на нечетной стороне улицы Московской, чуть правее наискосок, через дорогу, от нашего двора. И как этим гордились наши старожилы! Только и у многих из них теперь все равно остался от происшедшего какой-то осадок, муторный, горький. Но не судите, да не судимы, наверное, будете.
- А помнишь?
- Помню, Борис. Конечно, помню.
Да и что мне еще остается?
Только бы у тебя хватило мудрости.
19А через час, когда темень окутывает наш двор, превращая его в сакральный мирок, мы выскальзываем из беседки и расходимся по домам. В вечернее время каждая ветвь и тень служат нам защитной и оберегом. Мы прощаемся до завтрашнего дня, даже не подозревая, что скоро наступит черед думать об этой повседневности с такой грустью и теплотой.Ну вот, я опять разбередил себя, хотя и давал слово не впадать в прострацию. Теперь-то мы с Борисом оба понимаем, что, делая какой-либо выбор, необходимо быть готовым к тому, что он изменит всю твою дальнейшую жизнь. Но всегда важно, чтобы в тот момент, когда этот выбор делается, с тобой рядом был человек, который бы смог объяснить, что к чему. Такими людьми для нас, двенадцати - тринадцатилетних парней, были наши родители. Но до прописной истины ценить то, что имеем, мы должны были дойти сами. К сожалению, порой это сложно сделать даже теперь, несмотря на пройденное. Впрочем, что я вам об этом толкую? Сами все знаете. А если нет, то я вам не помощник, потому что таковых здесь, наверное, не может быть вовсе.
А сейчас, извините, я собираюсь написать Борису письмо. Скоро у него день рождения. Так что если не мешкать, мой конверт дойдет в аккурат, пусть даже и со значительными почтовыми проволочками. Правда, в тот день, когда ему исполнится двадцать, я невольно подумаю о том, что теперь мы не виделись уже не шесть с лишним, а семь с лишним лет. А в голове на пару дней опять засядет вопрос: что мы сможем сказать друг другу при встрече? Ведь пока я по-прежнему надеюсь, что когда-нибудь она все-таки состоится.
Антон Янковский
Вологда
1998-2000 гг.
| © 2001-2003 Независимая литературная премия "Дебют" Поддержка в интернете Myweb.ru |
|