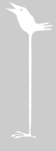| Новости | |
| Лауреаты | |
| Дебют 2001 | |
| История | |
| Документы | |
| Люди о премии | |
| Лица | |
| Обратная связь | |
| Фонд "Поколение" |
Дебют 2001
|
Горлач Дарья |
“Пуговичные короли”
Она родилась на рассвете, в пять часов двадцать минут - так говорила мама. Это почти полшестого утра. Она уже умела определять время по часам. Проще всего, конечно, определять по электронным, а по механическим легко, когда ровно какой-нибудь час. Она родилась на рассвете - и уже, наверное, пять часов двадцать минут, а может быть, и полшестого, но это трудно выяснить - электронных часов в доме нет, а есть только грязно-белый квадрат с острыми непонятными цифрами за поцарапанным и засиженным мухами стеклом.
Когда она родилась, папа уже ушел, - так говорила Бабушка. И когда уходил, забыл дать ей имя. Мама долго ждала его, потому что надо было регистрировать ребенка. А потом поехала сама. До города ехать долго, и дорога очень плохая, и автобус очень старый: в салоне с заляпанными еще с прошлой осени грязью окнами сквозь дыры в полу поднимается пыль и сильно пахнет пережженным бензином. Мама сидела у окна, читала какую-то иностранную книжку и вычитала там имя - Камила.
Бабушка, рассказывали, очень сильно с ней ругалась, называла имя "бесовским" и сплевывала, она всегда так делает, когда особенно разойдется. Через год окрестила девочку в церкви, где ей дали имя Людмила. И это было очень хорошо - все называли ее просто Мила. Все, кроме мамы, она звала ее обезьянкой, а когда сердилась - обезьяной.
Живых обезьян Мила никогда не видела, а Ромка - соседский мальчишка, хулиган и забияка - чтобы доказать, как она похожа на обезьяну, однажды притащил ей книжку с картинками про зоопарк. Скорее на обезьяну был похож старый облезлый Рыжик, который весь день отсыпался под ореховым деревом у садовой калитки, а по ночам тоскливо орал под окнами и дрался с чужими котами.
Бабушка, когда сердилась, называла ее "бесовским семенем". Слово было непонятным, но при этом Бабушка сплевывала, а значит - это страшное ругательство. Папу она называла не иначе как "нехристь" и говорила, что он похож на местного цыгана Тулo, который иногда заходил к ним. Туло шатался целыми днями без дела, к вечеру всегда был пьян, пел под гитару, словно завывая, и хрипел, и вытирал тыльной стороной руки большие красные губы, часто, раскатисто смеясь. Порой можно было видеть, как за пьяным Туло идет его жена Мара и кричит на всю улицу, и ругается по-ихнему, вся подаваясь вперед, и машет руками, а за ней семенят босые грязные цыганчата и ревут навзрыд. Но стоит Туло повернуться, как все смолкают и бегут назад, и Мара тоже, потому что если Туло злой, то побьет каждого, кто близко к нему подойдет. Один раз Мила даже видела, как Туло поймал Мару и побил ее, та потом визжала и бросала в него камнями. А шел цыган как раз к ним.
Мила боялась Туло и пряталась, когда он приходил. Однажды цыган поймал ее и поднял к потолку на вытянутых руках. Глаза у него были зеленые, мутные и злые, девочка заплакала с испугу, Туло засмеялся над ней своим хриплым смехом. Тогда Мила взяла и плюнула ему в эти самые глаза. Цыган медленно, осторожно опустил ее на пол и ударил наотмашь по лицу. Мама разругалась с ним, и Туло больше не приходил.
Черная стена ночи потрескалась тусклым серым рассветом, а вскоре и совсем раскрошилась, обнажая белесый небосвод. Стал подниматься розовый туман, густой и плотный от горизонта. Раздвигая влажные облака, лениво выкатывалось с восточной стороны дома солнце. В соседней комнате оседали на сбившуюся несвежую постель тяжелые сиплые вздохи. Бабушка всегда спала на правом боку плотно лицом к стене. Ее затхлое болезненное дыхание коптило белые в цветочек обои.
Вчера к вечеру ей стало хуже, и на работу она не пойдет. А это значит, что сегодня на завтрак не будет ни молока, ни хлеба, и им снова придется есть вареный картофель без масла и свеклу. Если, конечно, не придет мама. Когда мама нашла работу в городе, Бабушка очень обрадовалась. Денег, которые зарабатывала Бабушка, всегда не хватало до конца месяца. Правда, у них было много своего: овощи, например, в подвале или яйца - их несли куры. Да и мясо. Раз в два-три месяца Бабушка рубила курицу или утку. Но с тех пор, как мама стала работать, у них чаще появлялся сыр, и масло, и даже печенье и конфеты. Но позавчера…
Позавчера мама вернулась немного раньше обычного (ее кто-то подвез), а Бабушка отчего-то очень рассердилась, они скандалили на кухне, и Бабушка разбила тарелку, а мама положила свое серое платье в сумку и снова уехала в город. С тех пор Бабушка чувствовала себя очень плохо, но не ругалась, да и вообще ничего не говорила.
Уже, наверное, шесть, и Миле нужно отнести Бабушке таблетки и стакан кипяченой воды. Еще от двери можно видеть, какая Бабушка бледная и лежит не на правом боку, как обычно, а на спине, и смотрит в потолок, а левую руку прижимает к груди и придерживает ее у локтя правой. И оттого, что она тихо стонала, и оттого, что Мила стояла босыми ногами на полу, было очень страшно. Бабушка выпила лекарство и сказала: "Сбегай к Раковым, пусть скорую вызовут". Раковы - это соседи с правой стороны, и у них самый большой каменный дом, самый высокий забор и единственный телефон на всей улице. У них даже есть звонок в калитке, но Мила до него не доставала и просто постучала камнем в забор. Неожиданно пастью в железные прутья ринулась на нее, задыхаясь лаем, собака. Мила отшатнулась и упала голубым плащиком в застекленную первым заморозком лужу. На ее плач и на вой душащей себя ошейником собаки из дома вышла рыхлая, заспанная тетя Роза.
Когда приехала скорая, Бабушку вынесли на носилках, и носилки аккуратно поставили в машину. На улицу вышли и тетя Роза, и ее муж, такой же толстый, со смятым заплывшим лицом, в оранжевом махровом халате и в калошах, и даже ее глухонемая тетка тоже вышла. Они смотрели, как Бабушкины носилки поставили в машину, а Мила тоже залезла в кузов и взяла Бабушку за мягкую гладкую руку с желтыми пятнышками и припухлыми бугорками вен. Но тут один из санитаров, поеживаясь от солнечного мороза и придерживая белый халат у оторванной пуговицы, сказал хмуро и в нос: "Девочке нельзя". "Ничего, - Бабушка устало закрыла глаза, - жди маму". Санитар спросил, кто присмотрит за ребенком, почти строго глядя на тетю Розу, а глухонемая подала ему подобранную в грязи у заднего колеса машины пуговицу. Машина сперва не заводилась, и они стояли и ждали, пока скорая отъедет, только муж тети Розы ушел, потому что замерз в одном халате, а Миле было совсем не холодно, она даже не думала об этом, она думала о том, что куда-то далеко увозят Бабушку, и Мила не будет знать, где она и что с ней, как теперь не знает, что с мамой.
Потом они пошли в дом тети Розы, и тетя Роза стала готовить завтрак на кухне, что в доме, потому что у Раковых было две кухни: вторая, летняя - в глубине двора, у сада, построенная словно маленький сказочный домик с высокой красночерепичной крышей, вся увитая созревшим и не собранным фиолетовым виноградом.
Милу оставили одну, в огромной комнате среди темных массивных предметов, посередине круглый стол без скатерти, сквозь окна падало на зеленый ковер бледное солнце. На столе лежала книга в глянцевой обложке и, открыв ее, можно было увидеть, как бегают в ней маленькие букашки-таракашки-буквы. Мила как раз рассматривала их копошения, стараясь найти какую-нибудь знакомую: жук-Ж, когда сзади протянулась к ней тощая узкая тень, продвигаясь от двери, пока наконец не дернула пребольно за волосы, и молниеносно исчезла. В дверях стоял взлохмаченный мальчишка в одних трусах на кривых со сбитыми коленками ножках. Ромка оттягивал руками уши, надувал щеки и вращал глазами, как кривлялся всегда, изображая обезьяну. А потом сказал, как говорил всегда, дразнясь: "Обезьяна без банана". С Ромкой они редко разговаривали, хотя и жили рядом; чаще он просто бросал в нее камнями, дергал, обзываясь, за волосы или плевался горохом из пластмассовой трубки. Мила сглотнула слюну: из кухни плыл аромат жарящихся блинов и куриного бульона с луком и петрушкой, ей не хотелось ссориться. Но Ромка только что получил подзатыльник в кухне за опрокинутый стакан молока и был не в духе. Скрестив руки на груди, как взрослый, он хмуро спросил: "Ты чего приперлась, обезьяна? Проваливай, пока я тебе не врезал". Мила объяснила - впрочем, не очень вежливо, - что ее позвала тетя Роза. Ромка скорчил очередную рожу и, ехидно ухмыляясь, сказал: "А мама вчера говорила тете Ане, что вы живете как свиньи, что у вас везде грязь и вонь. Вот, - он победно ткнул пальцем в испачканный фланелевый плащик, - ты грязная, как свинья". "Я упала у ваших ворот, на меня набросилась овчарка", - почему-то стала оправдываться Мила, комкая грязное фланелевое пятно. Приближаясь, понизив голос, он добавил: "А еще она говорила, что твоя мать шлюха, все знают, чем она занимается в городе". Когда его лицо было особенно близко, она с размаху ударила кулаком по переносице. Размазывая по лицу кровь и сопли, жалобно и хрипло завывая, Ромка тыкался головой в отвислый живот тети Розы, а та визжала: "Хулиганка! Убирайся вон!"
Мила вернулась домой, где никого не было, кроме тщательно умывающегося под ореховым деревом Рыжика. Калитку она оставила чуть приоткрытой, так мама будет знать, что та не заперта, что ее ждут.
Холодильник, старый и уродливый, занимал лишнее место в узкой, с низким засаленным потолком, кухне, в нем все равно не было ничего, кроме бутылки с уксусом, и он ржавел; и даже мыши там уже не появлялись. В хлебнице оказался кусок зачерствевшего хлеба, Мила исцарапала десны, и получился хлеб с кровью, как на причастии. Мила подумала, что если бы Бабушка пошла на работу вчера или даже позавчера, то еще оставался бы хлеб и молоко, она говорила, что на ферме им, дояркам, дают их за просто так. Однако молоко в пластиковой бутылке и хлеб она всегда приносила за пазухой просторной шерстяной кофты и тогда казалась неестественно толстой.
Мила вытащила из укромного местечка - самого дальнего угла темного нафталинового комода - свою сокровищницу, резную шкатулку: в ней, она была в этом уверена, собрана лучшая в мире коллекция пуговиц всевозможных цветов и размеров. Каждая из пуговиц представляла единичный экземпляр в доказательство своей неповторимости и уникальности. Если Мила находила две одинаковые пуговицы, то одна попадала в коллекцию, а другая летела прямиком в мусорную яму. Таким образом иерархия пуговичной системы не нарушалась: каждая занимала в ней свое место и играла отведенную ей роль. Да, ее коллекция была маленьким пуговичным королевством, где царствовали пуговичные короли (самые большие и нарядные стекляшки, красные и зеленые), их жены (пуговицы поменьше, нежных пастельных цветов), их дети (маленькие белые пуговки); в поединки вступали рыцари (из меди и олова), слагали песни королевские музыканты (из дерева), сновали придворные (роговые и костяные) и слуги (пластмассовые, самые простые и некрасивые пуговицы). Наблюдать их сказочную, полную замечательных приключений, простых и добрых чудес, королевскую жизнь, было для Милы самой любимой игрой. Ее она любила больше даже, чем дрессировать колорадских жуков для цирка, - канатоходцев в полосатом трико, - самых упрямых и тупых сжигая в спичечном коробке. Пуговичные короли занимали ее целыми днями, они ссорились и мирились друг с другом, объявляли то войну, то капитуляцию, устраивали рыцарские турниры и совершали походы в неизведанные земли. В тот день в королевстве появилось чудовище - запонка, найденная в доме тети Розы, желтая и блестящая, с синим камнем. Сначала все ее приняли за роскошного богача, пока тот не начал свои злодейства; тогда самый храбрый оловянный рыцарь вызвал его на поединок и убил, его труп был спущен в канализацию, наступили празднества, и под их беспечную радость Мила задремала.
Когда она проснулась, все еще веселились, но стало темнеть, и в синей рыхлости сумерек пуговичным королям стало страшно. Они очень хотели есть. Мила вспомнила про бульон с золотыми кружочками, и это воспоминание отозвалось резью в желудке и слабостью в ногах. Не торопясь, очень внимательно она еще раз пересмотрела все кастрюльки и полочки, но так ничего и не нашла. И тут через нежелание пробилась мысль о погребе: о погребе, где на узких деревянных полках есть морковка, свекла и картофель. Морковь можно есть сырой, и если в погребе всю осень сухо и прохладно, то морковь сохраняется сладкой и сочной. Конечно, страшно лезть в погреб, но там можно включать свет - его провел еще дедушка, когда был жив. И погреб он выкопал, выложив кирпичом и досками, и он соорудил деревянную лестницу. Все это было очень давно, до ее рождения. Дедушку она никогда не видела, и в воображении он представлялся то Кощеем, то Добрым Молодцем, в зависимости от того, что и как говорила о нем Бабушка.
Дверца погреба с железным кольцом оказалась гораздо тяжелей, чем ей представлялось, и Мила сперва думала, что никогда не сможет ее открыть, но все тянула и тянула за круглую ручку. Первая ступенька скрипнула под нею, и, вырываясь из-под украшенного солевыми наростами потолка, оцепил ее запах затхлой сырости и гниющих овощей. По стенкам кое-где стекали жидкие струйки, в этих местах белый кирпич встопорщился и образовал коричневые дорожки и зеленые бережки. Мила спускалась осторожно, ступеньки были скользкими; она отвлекала себя от подбирающегося к ней страха - в кармане плаща сидели, весело болтая, ее бесстрашные короли. Она как раз прислушивалась к их трескотне, озвучивая каждого характерным для него голосом, когда случилось что-то, что, возможно, предсказывал ей страх. Она поняла только то, что сырая перекладина скрипнула под ней и вдруг исчезла, руки соскользнули с липкой деревянной поверхности, и, словно гром, - удар о грязный кирпичный пол. В темноте, вонючей и пыльной, где-то ближе к противоположной стене, потолок обрывался дыркой в небо.
Небо было едва различимо - таким оно стало темным, провожая закат. Сначала Мила совсем не могла ничего подумать, только смотрела, как загустевает небо и проступают сквозь него крохотные слепые глазки; но затем медленно, с нарастающей силой, морозом по коже, проникло в мозг ощущение боли. Мила попыталась привстать и ощутила судорожные спазмы тошноты; перед глазами поплыла, завертелась темнота подвала с выступающими из нее стенами, и чей-то сдавленный крик, возможно, ее собственный, напугал притаившуюся крысу в углу. Она снова прижалась к холодному кирпичу. Почему не горела старая, еще от смастеренной жившим когда-то дедушкой проводки, лампа? Может быть, стеклянная колба ждала именно этого момента, чтобы перегореть?
Мила уже доползла до лестницы, передвигая руками неестественно изогнувшуюся в колене ногу. Инстинкт самосохранения, всепоглощающий животный инстинкт, не размышлял, лишал, все угадывая, болевых ощущений, взвинчивал сопротивление до крика. Мила с остервенением и отчаянием пыталась дотянуться до целой перекладины, сжимая зубы, извиваясь всем телом и напрягая до вздутия мышцы скользивших по влажному дереву рук. Кончиками пальцев она доставала до ступени, но никак не могла ухватиться за нее, и руки срывались, и, обдирая локти, она падала лицом в опилочный мусор, пока наконец не стиснула виски обморочная муть и не проступила сквозь губы с резким звуком горькая жидкость. Когда Мила очнулась во второй раз, ужас уже был в ней. Он распухал и вращался, втягивая в себя все органы, словно в мясорубку. Физический, конвульсивно содрогающийся ужас стал чем-то самостоятельным, со скрежетом зубов, царапаньем пола и то с резкими, то с низкими стонами. На ее крики, заглушенные кирпичным сводом, откуда-то издалека ответила коротким лаем собака, возможно, та самая овчарка, что утром бросилась на нее. Утро со своим светом и прозрачным солнцем теперь было где-то далеко, словно очень давно; далека и нереальна была Бабушка на узких носилках, еще нереальнее была мама с ее серым платьем и табачным поцелуем. Мама! Мама! Рыдание и вой, похожий на вой той собаки, оборвали оцепенение. Мила замерла, застыла, как неодушевленный предмет, не мигала и даже, как ей казалось, не дышала. Постепенно к сознанию стали пробиваться естественные ощущения - неудобная поза, отечность заломленных рук. Попыталась перевернуться на спину - потянула, загудела со ступенчатым покалыванием по позвоночнику в мозг правая нога. Только сейчас Мила увидела ее, отброшенную в сторону, обособленную и ненужную. Вспомнилась Соня, первая и единственная кукла, ее пластмассовая неуклюжесть. Однажды кукольная нижняя конечность отсоединилась от полого организма и повисла свободно на резинке, и болталась по-всякому, и даже могла находиться коленкой со спины. А Соня продолжала все так же глупо смотреть пустыми глазами и улыбаться. И Миле начало казаться, что это не ее нога, а чья-то чужая, возможно, Сонина, и увидела словно со стороны себя, что смотрит пустыми глазами и улыбается, как пластмассовая кукла. Впрочем, нет никакой уверенности, что это ее тело, что это она сама и что она - здесь, а где именно - неясно. Единственное, что действительно понятно и неопровержимо - это темнота, а значит, может быть, она лежит в своей постели.
Тихо. Всё тихо, только пульсирующим, прерывающимся звуком, как капает с потолка вода, появляются в затылке бессмысленные слова: "Обезьяна без банана". Кап, кап, кап. "Бабушка, больница, начинается с буквы Б". Кап, кап. "Буква, тоже с Б". Кап, кап. "Мишка косолапый". "Мишка, мама, начинается с М". Это успокаивало, все было далеко и безразлично. Голова приятно кружилась, стало тепло и хорошо. Бред и жар расслабили сжавшееся в комок тело. Мила достала из кармана и сжала в кулаке цветные стекляшки. Улыбнулась. Теперь совсем хорошо. Веки отяжелели. Легкие и мягкие потоки убаюкивали, увлекали волшебными, красочными снами. Мила уснула; согретые детской ладошкой, уснули и пуговичные короли.
Горлач Дарья
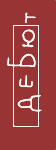
| © 2001-2003 Независимая литературная премия "Дебют" Made in Articul.Ru |
|